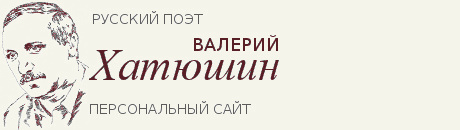Поэт Белой мечты, певец во стане белых воинов, белый витязь… — так называли и называют до сих пор Ивана Савина ценители его творчества. Эпитеты эти несут в себе отсвет некой легенды, но, как известно, легенду надо заслужить. Иван Савин не просто заслужил свою легенду, он оплатил ее всей своей короткой жизнью.
«Какая странная судьба русских поэтов, — писала в 1957 году в нью-йоркской газете «Новое русское слово» Ксения Васильевна Деникина, — какой рок навис над ними… Самый «старый» из них — Пушкин — был убит в 37 лет, Лермонтов — 27-ми, Надсона неумолимая болезнь унесла, когда ему еще не было 26-ти, а Гумилев был расстрелян большевиками в 35 лет…». И далее — о Савине: «…Он скончался на 28-м году жизни… Его не знают широко. Жестокая судьба послала его в русскую жизнь в самые роковые годы лихолетья, в красную завируху, которая снесла все устои нашей культуры; и надо сказать, что на его долю выпали все муки».
В 19-летнем возрасте Иван Савин ушел добровольцем в Белую армию, поступив в эскадрон Белгородских улан Сводного полка генерала Каледина, сформированного на основе кадров знаменитой 12-й кавалерийской дивизии, которой в начальный период Германской войны командовал А.М. Каледин. В крымский период Белой борьбы полк этот был переименован в 3-й Сводный кавалерийский полк. Вместе с Иваном Савиным в белых частях сражались и четверо его братьев. Судьбы их сложились трагично: два старших брата, Михаил и Павел, выпускники Михайловского артиллерийского училища, были расстреляны после взятия Крыма красными; двое младших — Николай и Борис — погибли в боях Гражданской войны. Революционное лихолетье унесло жизни и двух сестер Ивана: «Одна догорела в Каире, другая на русских полях…» — писал он позже. Из всей большой и дружной семьи в живых остался он один, да и то — чудом.
В последние дни обороны Крыма Иван Савин заболел тифом, был помещен в джанкойский лазарет, и, не сумев эвакуироваться, был пленен. Все пережитое ярко и подробно описано им в цикле очерков «Плен», до сих пор полностью не изданных, а также в ряде стихов и рассказов. Произведения эти увидели свет в эмиграции. Там же, в июле 1922 года, составляя краткую биографию, он с горький иронией так рассказал о своих мытарствах:
«…С осени 1919 года по осень 1921 блуждал по Дону, Кубани и Крыму и «увлекался спортом»: первое время верховой ездой и метанием копья, затем — после поражения на Перекопской Олимпиаде, заставшего меня в госпитале, — увлекательными прогулками по замерзшей грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в подвалах, особо и чрезвычайно для этого устроенных…»
Расстрела Иван Савин избежал действительно чудом: представившись полковым писарем, он долгое время вместе с тысячами других пленных кочевал из одного сборного пункта в другой, на его глазах убивали измученных, беззащитных людей, ему самому предстояло быть расстрелянным, и лишь воистину Божьим промыслом он, «стопроцентный» белогвардеец, вольноопределяющийся кавалерийского полка, смог избежать «ленинских пилюль», как называли тогда пули расстрельщиков. Известный поэт и литературный критик эмиграции Юрий Терапиано в своем очерке о Савине упомянул такой случай: «Часовой Чека, чувствовавший симпатию к Савину, показал ему как-то два бумажника, взятых им с расстрелянных офицеров, с бумагами и фотографиями. Это были бумажники двух его братьев, артиллеристов, и Савину стоило нечеловеческих усилий воли, чтобы не выдать себя».
В настоящее время известно очень мало о жизни Ивана Савина в Советской России в 1921 году, об обстоятельствах освобождения из «крымской ловушки» и прибытии в Петроград, встречи там с отцом и переезда в Финляндию весной 1922 года. Об одном можно сказать с уверенностью: в Финляндию отец и сын выехали вполне легально, используя свое финское происхождение. Настоящая фамилия Ивана — Саволайнен. Изменил он ее и уже навсегда стал Савиным — в красном плену.
И все же 1921 год в жизни будущего поэта Белой мечты был решающим, поворотным. Пробираясь через взбаламученную Россию в Петроград, Иван наблюдал картины народного бытия в «советском раю», ставшие впоследствии сюжетами его рассказов, объединенных в циклы «Дым отечества», «Книга былей»; увиденное им послужило основой для многих очерков и статей, напечатанных в изданиях Гельсингфорса, Риги, Ревеля, Берлина, Парижа… К 1921 году относятся и первые зрелые стихи поэта, хотя есть основания полагать, что некоторые литературные опыты были у него еще в гимназический период, до 1917 года, когда семья Ивана жила в маленьком уездном городе Зеньково Полтавской губернии.
Но как автор ярких, самобытных стихотворных произведений, прозаик и публицист в полной мере Савин проявил себя именно в эмиграции, в Гельсингфорсе. Именно там, осмысливая недавнее прошлое и остро переживая события современности, возник поэт Белой идеи — Иван Савин, творчество которого и в наши дни трогает душу и заставляет еще и еще раз задумываться о смысле Белого движения, о его духовной и исторической миссии.
Никакие метели не в силах
Опрокинуть трехцветных лампад,
Что зажег я на дальних могилах,
Совершая прощальный обряд.
Не заставят бичи никакие,
Никакая бездонная мгла
Ни сказать, ни шепнуть, что Россия
В пытках вражьих сгорела дотла…
Так писал Савин зимой 1922 года в Гельсингфорсе, где он первое время работал на сахарном заводе, сколачивая ящики тары, или зарабатывал на жизнь каким-то случайным трудом.
«Живу здесь в полном довольстве, но несколько однообразно. Единственным развлечением служит выгрузка и нагрузка пароходов. В свободное от этого развлечения время пишу для ревельской газеты «Жизнь» свои заметки о потерянном для всего мира, но возвращенном России рае и думаю долго, до кровавых мальчиков в глазах думаю, когда, когда, о Боже, над моей несуразной, над моей пленной, над моей прекрасной Россией взойдет расстрелянное солнце?»
Это — заключительные слова его короткой, горько-ироничной биографии, написанной в 1922 году для русского молодежного театра. Кстати, драматургия Савина — абсолютно неисследованная страница его творчества, как, впрочем, и его публицистка — статьи и очерки, написанные за пять лет отпущенной ему Господом короткой творческой жизни.
Вообще начало газетной и журнальной работы в эмиграции было у Савина очень интенсивным: такое ощущение, что к 1923 году он стал уже абсолютно сложившимся литератором, публицистом. Когда просматриваешь его библиографию, бросается в глаза, что, судя по количеству публикаций, писал он едва ли не каждый день и практически еженедельно печатался в самых разных изданиях. В 1924 году он уже собственный корреспондент целого ряда эмигрантских печатных органов: берлинского «Руля», рижской «Сегодня», белградского «Нового времени», парижских журналов «Возрождение» и «Иллюстрированная Россия», но прежде всего он — сотрудник гельсингфорсской газеты «Русские вести» (или, как она называлась позже, — «Новые русские вести»), где публиковалось основное количество его материалов.
При этом основу публикаций Савина составляют отнюдь не заметки, написанные на злобу дня, репортажи и сообщения с мест событий (хотя и их было немало), — главным образом, он пишет серьезные статьи и очерки, в которых высказывает свою точку зрения на происходящее в Советской России и в мире, на проблемы русской эмиграции — точку зрения воина-белогвардейца.
Иван Савин пристально следил за происходящим в Советской России, особый, пристрастный интерес вызывала у него деятельность Коминтерна, направляемая из Москвы, — этому посвящены многие его материалы. Но вот в стихах своих он был совершенно далек от политики, и хотя его стихотворным произведениям, конечно же, присуща гражданственность, но это — гражданственность особого рода.
«Стихи Ивана Савина стоят того, чтобы их отметить, — писал в мае 1926 года профессор Владимир Христианович Даватц в предисловии к первому изданию сборника стихов Савина «Ладанка», — в них нет ни патриотического шума, ни сентиментальной слащавости. И главное — в них нет нигде стихотворной прозы. Словами, которые падают в душу огненными каплями, выражает он внеполитическую природу белых борцов».
Все это было. Путь один
У черни нынешней и прежней.
Лишь тени наших гильотин
Длинней упали и мятежней.
И бьется в хохоте и зле
Напрасной правды нашей слово
Об убиенном короле
И мальчиках Вандеи новой…
Мальчики новой Вандеи… Это — и четверо братьев Ивана Савина, погибших в пекле Гражданской войны. Каждому из них он посвятил замечательные, щемящие душу стихи, воздвигнув тем самым своеобразный литературный памятник юным героям-белогвардейцам.
Считаю необходимым отметить одну важную особенность, присущую не только творчеству Ивана Савина, но и всей плеяде литераторов-белогвардейцев — Николаю Туроверову, Ивану Лукашу, Сергею Бехтееву, Арсению Несмелову, Марианне Колосовой, Владимиру Смоленскому, Василию Сумбатову… Все это поколение, прошедшее через горнила Первой мировой и Гражданской войн, воспитанное на литературных традициях Серебряного века (любимым поэтом Савина был Александр Блок), все это поколение в творчестве своем было абсолютно чуждо творческой надломленности Серебряного века. Литераторы-белогвардейцы, если так можно сказать, не заигрывали уже с силами зла, как их знаменитые предшественники. Для иллюстрации подобного «заигрывания» вспомним хотя бы строки Валерия Брюсова: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья. И Господа и дьявола равно прославлю я». Вот таких желаний ни у Ивана Савина, ни у других родственных ему по судьбе молодых писателей эмиграции не было совершенно. Из пекла Гражданской войны они вышли духовно чистыми, и в религиозном, в мистическом плане они задавались уже совсем иными вопросами:
Любите врагов своих… Боже,
Но если любовь не жива?
Но если на вражеском ложе
Невесты моей голова?
Но если, тишайшие были
Расплавив в хмельное питьё,
Они Твою землю растлили,
Грехом опоили ее?
Господь, успокой меня смертью,
Убей. Или благослови
Над этой запекшейся твердью
Ударить в набаты крови.
И гнев Твой, клокочуще-знойный,
На трупные души пролей!
Такие враги — недостойны
Ни нашей любви, ни Твоей.
Не случайно, наверное, подлинным учителем и наиболее близким автором из всего Серебряного века стал для поэтов-белогвардейцев Николай Гумилев, овеянный славой участника Великой войны, путешественника и члена офицерской заговорщицкой группы, раскрытой чекистами. Влияние на лирику Савина военных стихов Гумилева отмечал, в частности, Глеб Струве в своей работе «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956 г.). Струве писал о первом и единственном прижизненном стихотворном сборнике Ивана Савина «Ладанка»: «Религиозность, любовь к России и вера в нее, и верность «белой мечте», звучавшие как основные мотивы в этой скромной книжечке, стяжали Савину популярность в кругах, все еще преданных Белой идее. Но в стихах Савина не было ничего надуманно-тенденциозного, никакой пропаганды. У него был свой, приглушенный, но подлинно-поэтический голос».
Следствием безусловного признания поэтического творчества Савина в «белых» кругах эмиграции стало осуществленное в 1926 году Главным правлением общества галлиполийцев издание сборника «Ладанка». Предисловие к нему написал Владимир Христианович Даватц, бывший профессор Харьковского университета, как и Иван Савин вступивший летом 1919 года добровольцем в Вооруженные Силы Юга России. Лично Даватц и Савин, по всей видимости, никогда не встречались, зная друг друга лишь заочно по публикациям в эмигрантской прессе. И, казалось бы, Савин, не будучи галлиполийцем, живя за тысячи верст от Белграда, где располагалось белогвардейское издательство, не мог рассчитывать на выпуск книги именно там. Но случилось иначе.
«В стихах Ивана Савина не может быть ничего специально галлиполийского, — писал В.Х. Даватц в предисловии к «Ладанке». — Не видел он красоты нашего полотняного городка, фиолетовых гор за проливом, не слышал вечерней трубы и вечерней молитвы, когда за темным кряжем опускалось солнце. Не радовался он, как мы, каждому русскому ростку — звонкой юнкерской песне, белым гимнастеркам, стройным рядам проходящих частей. Не удостоился высокого счастья носить галлиполийский крест.
Но не в палатках, юнкерских песнях, железном кресте лежит душа Галлиполи. Она давно вышла из берегов Дарданелл; она давно переросла свои воспоминания. Она не нуждается в фимиаме и прославлении. Галлиполийцы — не каста, а духовное братство. Нам, кавалерам черного креста, близки все те, кто умеет носить свой невидимый крест».
Для Савина выход в свет стихотворного сборника, художественно оформленного им же самим (Савин был неплохим рисовальщиком), стал событием большого значения. Не менее важным стало это событие и для культурной жизни русской военной эмиграции. Небывалый случай! В последующие годы «Ладанка» еще дважды была переиздана на средства галлиполийцев: в 1947 году в г. Менхенгофе (Германия) в количестве двухсот экземпляров, и в 1958 году в Нью-Йорке, в издании «Переклички» — военно-политического журнала Общества галлиполийцев. Последний выпуск книги был даже более полным: помимо 34 стихотворений, изначально составивших сборник, туда было включено еще четыре десятка дотоле неизвестных стихов.
Надо заметить, что несмотря на отсутствие в «Ладанке» произведений, посвященных собственно галлиполийцам, в творчестве Савина они все-таки есть и теперь достаточно известны:
Огневыми цветами осыпали
Этот памятник горестный вы,
Не склонившие в пыль головы
На Кубани, в Крыму и в Галлиполи.Чашу горьких лишений до дна
Вы, живые, вы, гордые, выпили
И не бросили чаши… В Галлиполи
Засияла бессмертьем она.Что для вечности временность гибели?
Пусть разбит ваш последний очаг —
Крестоносного ордена стяг
Реет в сердце, как реял в Галлиполи.Вспыхнет солнечно-черная даль
И вернетесь вы, где бы вы ни были,
Под знамена… И камни Галлиполи
Отнесете в Москву, как скрижаль.
Памятник, о котором говорится в стихах, — есть памятник галлиполийцам, возведенный в 1921 году на месте стоянки эвакуированных частей 1-го армейского корпуса Русской армии генерала П.Н. Врангеля, и позже воссозданный в уменьшенном виде на кладбище Сент-Женевьев де Буа. Но, в сущности, и эти стихи Савина — тоже памятник, только памятник литературный.
«Книга Савина — есть кредо добровольца», — писал в августе 1926 года в отзыве на «Ладанку», опубликованном в парижском «Возрождении», Ф. Касаткин-Ростовский.
«Он был Белым офицером в поэзии и поэтом Белой мечты в деятельности», — вторил ему ровно через год автор одной из заметок, посвященных неожиданной смерти Савина — Н. Чебышев (Париж, 12 июля 1927 г.).
Сам Савин, уже умирая от заражения крови после неудачной операции летом 1927 года, написал на листке слабеющей рукой: «…Произведенный смертью в подпоручики Лейб-гвардии Господнего полка!».
В целом же отдельно выделить «белогвардейскую» составляющую в творчестве Ивана Савина довольно сложно, поскольку все оно — и в острых публицистических статьях, и в художественной прозе, и в стихах (даже в самых мягких, глубоко лирических), насквозь белогвардейское по духу, по какой-то внутренней сути. Белое движение для Савина стало судьбой, слилось с его жизнью и творчеством, превратив их в живую легенду, легенду о поэте Белой мечты.
Очень ясно и определенно это почувствовал Иван Алексеевич Бунин, откликнувшийся на смерть Савина такими пронзительными словами:
«И вот, еще раз вспомнил я его потрясающие слова, и холод жуткого восторга прошел по моей голове и глаза замутились страшными и сладостными слезами:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое!
Этот священный, великий день будет, и лик Белого Воина будет и Богом, и Россией сопричислен к лику святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест».
Между Буниным и Савиным велась переписка. В своей первой статье, посвященной Ивану Савину (а была еще и вторая — на пятилетие со дня смерти), Иван Алексеевич привел отрывок из предсмертного письма поэта, ему адресованного:
«Пользуюсь первым же днем некоторого улучшения, чтобы ответить Вам. Безгранично был тронут теплыми Вашими строками. Словами этого не скажешь, да и вряд ли надо говорить. Но все же хочется мне, со всей искренностью и любовью к Вам, сказать: когда я думаю о бездомном русском слове, которое тоже, как и все мы, стало «Божьим подданным», и думаю о России, какой-то знак неожиданного равенства падает между Вами — и Корниловым: общим путем идете Вы, крестящий словом, и Он, крестивший мечом… Вот почему доброе слово Ваше о моем маленьком даре — это Георгиевский крест из рук Корнилова…»
«Да, — замечает Бунин, — для него это было высшее сравнение — сравнение кого-нибудь с первым Вождем Белого Дела. Дорогой друг и соратник, — если я только смею сказать так, — он и не подозревал, какую честь оказывает он мне не только этим сравнением, но и тем, что это говорит он, Иван Савин, «маленький дар» и славная жизнь которого уже, наверно, переживут многих из нас в истории России…»
Теплые отношения связывали Савина и с Ильей Ефимовичем Репиным, который, по его собственному признанию, мечтал написать портрет поэта. До наших дней сохранились два письма Ильи Ефимовича к Савину, в одном из них содержится любопытный ответ на, видимо, поступившее со стороны Савина предложение возвысить свой голос против деяний большевиков. Репин отвечает отказом и пишет в объяснение этому: «У меня там, в Совдепии, есть заложники — дочь и внучка (учительницы), у внучки уже трое правнуков моих. Полуограбленные, они обречены на переселение. И вот, обиженные власти погонят их зимою, куда-нибудь в Сибирь… Кто же их нраву может перечить?»
Надо сказать, что Иван Савин, подобно тысячам и тысячам других белоэмигрантов, не верил в долговечность коммунистического режима. Долгое время находившийся в красном плену на грани жизни и смерти, переживший сильнейшие душевные потрясения, этот, по выражению его жены, «искалеченный юноша-поэт», считал буквально месяцы и недели до начала нового похода белых войск в Россию и писал об этом постоянно:
«Сухие ромашки мы… Россия — вся высохла… Жалкие, никому не нужные цветы… Мы — для гербария, для странной и страшной коллекции: цветы с высохших полей… Люди без Родины… А соленый ветер ходит между колоннами, треплет занавески, шепчет в уши нежно: уже недолго… недолго… Может быть, год, может быть, месяц… На безгранной поляне России гуще, сильнее и ярче прежнего зацветут ромашки… Белые-белые… С золотыми, гневными, прозревшими сердцами… Уже недолго».
Сам же Иван Савин в своей публицистике всегда находился на «острие момента». Как уже отмечалось, писал он много, очень много. С одной стороны это объяснялось и материальными причинами — в Финляндии Савин женился на молодой девушке, дочери офицера 1-го Финляндского стрелкового полка, Людмиле Соловьевой, пережившей мужа почти на 70 лет! Ну а главное, что заставляло Савина вновь и вновь браться за газетную работу, где-то, может быть, в ущерб стихам и прозе, это стремление постоянно участвовать в Белой борьбе за Россию — пусть не штыком солдата, так пером журналиста.
Известный журналист и литературный критик эмиграции Петр Пильский, сам участник Великой (Первой мировой. — Ред.) войны, имевший боевое ранение, вспоминал о газетной работе Савина:
«Никогда, ни разу, ни на одну минуту, ни у кого в нашей редакции не возникло ни малейшего недоверия к тому, что писал, что присылал, что сообщал в «Сегодня» Иван Савин, — так наглядно, так ощутимо, так убедительно в своей правдивости передавалась его четкая искренность, его всесторонняя, не соблазняющаяся пристрастиями, личная и авторская честность».
К сожалению, сейчас художественное наследие Савина, хоть и неполно, но изданное у нас, заслоняет в восприятии современных российских читателей его публицистические произведения. А они, и это надо подчеркнуть, составляют большую часть всего им написанного и, естественно, заслуживают издания отдельным сборником и внимательного изучения.
В 1988 году проза и поэзия Ивана Савина впервые была представлена в сборнике «Только одна жизнь. 1922—1927», подготовленном и изданном его вдовой Людмилой Владимировной Савиной (по второму мужу — Сулимовской). До сих пор книга эта остается наиболее полным по объему сборником произведений Савина. О восприятии творчества поэта Белой мечты в кругах русской эмиграции на рубеже 1980—1990-х годов Людмила Владимировна писала так:
«Самое главное и важное, что Иван Савин был поэтом Божьей милости, попавшим в русскую смуту, которую он сумел так ярко и глубоко описать. Я молю Бога, чтобы он, умерший 60 лет тому назад, дотронулся, как живой, до вашего сердца… Но сознаюсь, что иногда мне делается страшно… Мне не ясна сейчас наша общая эмиграция. Она мне представляется густым, полным тумана лесом, в котором растут и крепкие дубы, и сосны, и жидкие березки, и кустарники: есть и прогалинки в густых кустах… И не знаешь, чем дышат за этими кустиками или деревьями… Туман… Поймут ли сегодня люди, как искалеченный юноша-поэт на пороге смерти до конца бил в один и тот же, дорогой и нам колокол?..»
Этот же вопрос можно, наверное, отнести и к современным читателям Ивана Савина в России, еще далеко не освободившейся от антирусского наследия.
Иван САВИН
ПЕРВЫЙ БОЙ
Он душу мне залил метелью
Победы, молитв и любви…
В ковыль с пулеметною трелью
Стальные легли соловьи.У мельницы ртутью кудрявой
Ручей рокотал. За рекой
Мы хлынули сомкнутой лавой
На вражеский сомкнутый строй.Зевнули орудия, руша
Мосты трехдюймовым дождем.
Я крикнул товарищу: «Слушай,
Давай за Россию умрем».В седле подымаясь, как знамя,
Он просто ответил: «Умру».
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру.И чувствуя, нежности сколько
Таили скупые слова,
Я только подумал, я только
Заплакал от мысли: Москва…1925 г.
РОССИИ
Услышу ль голос твой? Дождусь ли
Стоцветных искр твоих снегов?
Налью ли звончатые гусли
Волной твоих колоколов?Рассыпав дней далеких четки,
Свяжу ль их радостью, как встарь,
Твой блудный сын. Твой инок кроткий,
Твой запечаленный звонарь?Клубились ласковые годы,
И каждый день был свят и прост.
А мы в чужие небосводы
Угнали тайну наших звезд.Шагам Господним, вечным славам
Был солнцем вспаханный простор.
А мы, ведомые лукавым,
Мы уготовили костер,Бушующий проклятой новью —
Тебе, земля моя! И вот —
На дыбе крупной плачем кровью
За годом год, за годом год…1924 г.
***
Кто украл мою молодость, даже
Не оставил следов у дверей?
Я рассказывал Богу о краже,
Я рассказывал людям о ней.Я на паперти бился о камни.
Правды скоро не выскажет Бог.
А людская неправда дала мне
Перекопский полон да острог.И хожу я по черному снегу,
Никогда не бывав молодым.
Небывалую молодость эту
По следам догоняя чужим.Увели ее ночью из дому
На семнадцатом, детском году.
И по вашему стал, по седому,
Глупый мальчик метаться в бреду.Были слухи — в остроге сгорела,
Говорили — пошла по рукам…
Всю грядущую жизнь до предела
За года молодые отдам!Но безмолвен ваш мир отсиявший.
Кто ответит? В острожном краю
Скачет выжженной степью укравший
Неневестную юность мою.1925 г.
***
Помните? Хаты да пашни.
Луг да цветы, да река.
В небе, как белые башни,
Долго стоят облака.Утро. Пушистое сено
Медом полно. У воды
Мельница кашляет пеной,
Пылью жемчужной руды.Помните? Вынырнул вечер,
Неповторимый такой.
Птиц многошумное вече,
Споря, ушло на покой.Тени ползут, как улитки.
В старом саду. В темноте
Липы шуршат. У калитки
Странник поет о Христе.Помните? Ночью колеса
Ласково как-то бегут.
Месяц прищурился косо
На полувысохший пруд.Мышь пролетела ночная.
Выплыл из темени мост.
С неба посыпалась стая
Кем-то встревоженных звезд…1924 г.
***
Кипят года. В тоске смертельной,
Захлебываясь на бегу,
Кипят года. Твой крестик тельный
В шкатулке крымской берегу.Всю ночь не спал ты. Дрожь рассвета
Вошла в подвал, как злая гарь
Костров неведомых, и где-то
Зажгли неведомый фонарь,Когда, случайный брат по смерти,
Сказал ты тихо у окна:
«За мной пришли. Вот здесь, в конверте,
Мой крест и адрес, где жена.Отдайте ей. Боюсь, что с грязью
Смешают Господа они…» —
И дал мне крест с славянской вязью,
На нем — «Спаси и сохрани».Но не спасла, не сохранила
Тебя рука судьбы хмельной.
Сомкнула общая могила
Свои ресницы над тобой…Кипят года в тоске смертельной,
Захлебываясь на бегу.
Спи белым сном! Твой крестик тельный
До белой тризны сберегу.1923 г.
CHANSON TRISTE
Маме
Жизнь ли бродяжья обидела,
Вышел ли в злую пору…
Если б ты, мама, увидела,
Как я озяб на ветру!Знаю, что скоро измочится
Ливнем ночным у меня
Стылая кровь, но ведь хочется,
Все-таки хочется дня.Много не надо. Не вынести.
И все равно не вернуть.
Только бы в этой пустынности
Вспомнить заветренный путь,Только б прийти незамеченным
В бледные сумерки, мать,
Сердцем, совсем искалеченным,
В пальцах твоих задрожать.Только б глазами тяжелыми
Тихо упасть на поля.
Где золотистыми пчелами
Жизнь прожужжала моя,Где тишина сероокая
Мертвый баюкает дом…
Если б ты знала, далекая,
Как я исхлестан дождем!1922 г.
НОВЫЙ ГОД
Никакие метели не в силах
Опрокинуть трехцветных лампад,
Что зажег я на дальних могилах,
Совершая прощальный обряд.Не заставят бичи никакие,
Никакая бездонная мгла
Ни сказать, ни шепнуть, что Россия
В пытках вражьих сгорела дотла.Исходив по ненастным дорогам
Всю бескрайную землю мою,
Я не верю смертельным тревогам,
Похоронных псалмов не пою.В городах, ураганами смятых,
В пепелищах разрушенных сел
Столько сил, столько всходов богатых,
Столько тайной я жизни нашел.И такой неустанною верой
Обожгла меня пленная Русь,
Что я к вашей унылости серой
Никогда, никогда не склонюсь!Никогда примирения плесень
Не заржавит призыва во мне,
Не забуду победных я песен,
Потому что в любимой стране,Задыхаясь в темничных оградах,
Я прочел, я не мог не прочесть
Даже в детских прощающих взглядах
Грозовую, недетскую месть.Вот зачем в эту, полную тайны,
Новогоднюю ночь, я чужой
И далекий для вас и случайный,
Говорю вам: крепитесь! ДомойМы придем! Мы придем и увидим
Белый день. Мы полюбим, простим
Все, что горестно мы ненавидим,
Все, что в мертвой улыбке храним.Вот зачем, задыхаясь в оградах,
Непушистых, нерусских снегов,
Я сегодня в трехцветных лампадах
Зажигаю грядущую новь.Вот зачем я не верю, а знаю,
Что не надо ни слез, ни забот,
Что когда-нибудь к милому краю
Нас Господь наконец приведет.1922 г.