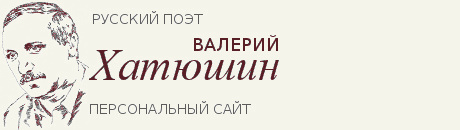Имя поэта и публициста Валерия Хатюшина давно и прочно пользуется признанием у православных патриотов. Но только в последнее десятилетие в нем самом и в отношении к нему произошел тот качественный перелом, который позволяет нам увидеть в нем уже не просто талантливого поэта, одного из элиты нашего родного русского Парнаса, а пророка в пушкинско-лермонтовском понимании этого весьма обязывающего творческого определения. Внутри него самого произошла та инкарнация, в результате которой все увидели в нем совершенно нового поэта – не то, чтобы обновившего себя, но вдруг провидчески постигшего суть времени.
Была яркая поэтическая индивидуальность, привлекавшая к себе внимание читателей и поклонников природным чувством слога, внутренней музыкальностью стиха (недаром на стихи Хатюшина написано композиторами немало песен), неповторимо русской природностью поэтического дара. Но молодого Хатюшина, было похоже, сдерживали внутренние рамки, он порой сам боялся собственной поэтической откровенности и загонял себя в самоограничительное прокрустово ложе внутреннего редактора.
Может быть, вина тут была и не столько его самого, сколько политической обстановки, жестоких цензурных обстоятельств в советское время – что греха таить! – коварно распространявшихся прежде всего на почвенные таланты. Но вряд ли все тут нужно списывать только на то противоречивое время. Есть еще и некоторая особая тайна природы творчества для поэтов тютчевского склада (а Валерий Хатюшин, несомненно, принадлежит именно к этой русской поэтической традиции), которые раскрываются полностью уже в зрелости, прочувствовав эпоху и становясь истинными выразителями ее глобальной эзотерической сущности.
Хатюшин начинал, когда еще не отгремела популярность Евтушенко и Вознесенского, Фирсова и Исаева. Но где они теперь? Что-то еще пытаются выразить осипшими голосами, поют «душой», как певцы, потерявшие голос, но вдруг выяснилось, что души чуткой к нынешнему времени у них (как и у огромного количества их подражателей и «продолжателей») уже нет.
Считается, что во времена революций и больших переломов всегда особо расцветает поэзия. Но у нас случилось обратное. Жухлая «горбачевско-ельцинская» полуреволюция-полуконтрреволюция, оказалась настолько внутренне гнилой, что, как мух на помойке, наплодила толпы пошловатых карликов-«авангардистов» – вырождающихся жалких кривляк в шутовских масках, убогих импотентов, от природы не способных к поэтическому пророческому проникновению.
Мы уже, было, смирились с поэтической беспросветностью нашего времени. Говорят ведь, что есть непоэтические эпохи. Лишь в последние годы все-таки стали, как подснежники, появляться новые, вроде бы что-то обещающие поэтические имена. Но пока за ними только стихотворческое многообещание.
И тем разительнее на таком невнятно сером, печально невыразительном общем фоне отечественного Парнаса знаковое появление проникновенного «Собрания стихотворений» Валерия Хатюшина (Москва, «Российский писатель», 2003 г., 592 с.). Прекрасно изданную – в лучших традициях знаменитой большой серии «Библиотеки поэта» – эту книгу приятно уже взять в руки. А начинаешь читать и становишься сопричастником таинства становления большого поэта, одного из выразителей русского духа, по которым отсчитывает время сама наша великая история.
Уже первое, открывающее книгу, стихотворение Валерия Хатюшина «Звезды», написанное в 1964-м году во взбудораженное «оттепелью» лохматое хрущевское время (когда автору было всего-то 16 лет), поражает редкой проникновенной тютчевской интонацией и как бы возвышением над бытием, эзотерической отстраненностью звездного поэта.
День угрюмый угасает,
и на темно-синем небе
каждый вечер проступает
звезд живых плывущий лебедь.
Я любуюсь и мечтаю,
слушать страшно интересно,
что они, всю ночь сверкая,
шепчут мне из тьмы небесной.
Звезды грустные вздыхают,
что согреть меня не могут,
и под утро упадают
на туманную дорогу…
Все вокруг кричали, бесновались, кляли задним числом Сталина и штурмовали Политехнический музей, в котором витийствовали главные «бунтари» лживой хрущевской оттепели. А юный поэт поднялся над этой «оттепельной» грязью к звездам и с их высоты удивительно просто и музыкально поведал о том, что бесовство Политехнического исчезнет вместе с его куклами-петрушками, но звезды останутся. Те крикливые «глашатаи» кого-то «разоблачали», а он писал о природе, о грусти своей души. И, как у Тютчева (и в этом уже с первых стихов проявился удивительный талант Хатюшина!) вместе с описанием картин природы невольно рождались философские обобщения. Между строк ясно ощущался второй смысл. Стихотворный контекст выходил за рамки чистой лирики и звучал уже тогда прямым конспирологическим вызовом. Вызовом не политическим, не тривиально оппозиционным, а внутренним, наполовину бессознательным, стихийным и оттого особенно проникновенным, до глубин задевающим саму душу.
Снега, метели и туманы,
прощайте, доброго пути!
Грозой сверкая неустанно,
весна, взрывайся и свети!
Пусть нам дожди омоют лица,
цветы сомкнут свои ряды.
Как длиннокосые девицы,
склонятся ивы у воды.
Вся в ожидании природа.
Казалось бы, зачем грустить?
Зима – смурное время года – прошла,
ее не воротить.
Земля весною станет краше.
Но давит сердце мне печаль.
Зима ушла из жизни нашей.
Но отчего ее мне жаль?..
(1968 г.)
Надо помнить то время, когда не только стихотворцы-прогрессисты Политехнического, но и публицисты в большинстве газет и журналов наперебой жонглировали хрущевской «оттепелью» и сталинской «зимой», чтобы осознать невольно возникавшие тогда у читателей ассоциации и вопросы – вопросы к самим себе. Но тут – никакой политической навязчивости в стихах, никакого «кукиша в кармане», каким тогда щеголяли все, кому не лень. А просто о природе. Но о природе расширительно, в осознании вселенского масштаба. И в этом главное: звучащий в стихотворении голос наполнен, как в симфонической поэме. Как в программной музыке, когда вроде и нет прямых слов, но их и не надо. Мы и без лишних слов понимаем все и задумываемся. Надолго и как-то по особенному, не по-земному задумываемся. В этом-то и есть то сокровение, с каким приходит к читателям подлинный поэт тютчевской традиции.
Никакой аффектации, никаких лишних жестов (будто он бессознательно-нарочито противопоставлял себя поэтам-горлопанам) не было в поэзии молодого Хатюшина. Помню, как поразило, до костей пробрало, заставило передумать о многом его обращение к полузапрещенной тогда Марине Цветаевой «В Елабуге на кладбище», опубликованное в первой книжке стихов:
Вот мы и встретились, Марина,
здесь, у раздвоенной сосны,
на русском кладбище старинном
в глуши татарской стороны.
Крестов желтеющие лица
скорбят, повернутые вспять…
Здесь так легко остановиться
и так непросто устоять.
…Стою один. Смотрю печально.
Ты не меня сюда звала.
Моя дорога не случайно ль
конец твоей пересекла?..
И как ни больно расставаться,
еще мы свидимся вдали,
тогда смогу я отозваться
на голос твой из-под земли…
(1973 г.)
В поэзии молодого Хатюшина удивляет редкое для того времени его ощущение своей почвенности и, одновременно, присутствие той особенной русской ориентации на звезды, которая всегда была в крови высокой русской поэзии как золотого, так и ее серебряного века – от Федора Тютчева до Марины Цветаевой.
«Есть в стихах Валерия Хатюшина заботливая осторожность: как бы не пройти равнодушно мимо того, что ты должен обиходить, укрепить и передать дальше. Ну, скажем, яблоню, поле, тропу детства, родник», – написал в предисловии к его второму сборнику стихов «Деревья собираются в дорогу» авторитетный Валентин Сорокин.
Действительно, молодой Валерий Хатюшин удивительно легко и свободно перешагнул через сугубо чувственное «нетерпение сердца» (по памятному определению Стефана Цвейга) и, брезгливо обойдя стороной трибунную «исповедальную» лирику, подошел к святая святых – русской лирической традиции и склонился перед ее бездонной тайной.
Нет, он вовсе не витал в звездах, не видя прозы и ухабов банальной современности и не чувствуя их. Напротив, в отличие от модных исповедальных поэтов, он начал познание своей России с ее глубинки. Солдатом-призывником, отправленным на его счастье служить в Сибирь, в Красноярский край, в самую столбовую, сохранившую себя в коренной традиции Русь. «Белая Россия, белая Сибирь. Белизной покрылась ветреная ширь. Санная дорога, будто в старину, серой полосою режет белизну…» В Сибири рождались прекрасные стихи: «Спят солдаты», «Хозяин тайги», «Весеннее», «На посту», «Прощание».
После «солдатчины» поэт начинает «романтическое» путешествие по дорогам России. Исповедальные поэты, вроде Евтушенко, много и барабанно-газетно писали о великих стройках коммунизма, на которые бросали доверчивую комсомольскую молодежь. Хатюшин побывал в комсомольской романтике не наездом, не в командировке от Союза писателей, а по собственной воле, по зову души. И написал простую и горькую правду. Его стихотворение «Романтики» прозвучало тревожным диссонансом к барабанной «исповедальной» поэзии. Он никого не обличал, не разоблачал начальников, по своей нерадивости бросивших молодежь на тяжкие испытания, на выживание. Он скупо показал жизнь на «стройках века», как есть. Изнутри. Через себя самого и своих друзей. «Ну, где же та романтика из книг? Ах, вы, мечты, придуманные в школе!»
В настоящей поэзии всегда есть незримый знак, как знак Божьей пробы. Это ее лирический герой. В прозе можно придумать себя. В поэзии невозможна фальшь – сразу захлестнет графомания.
Лирический герой Валерия Хатюшина привлекает крепостью духа, стойкостью, выдержкой, той особенной русской устойчивостью в жизни, которая веками помогала нам сохранить себя как великий народ. Ему веришь, когда он говорит: «Став романтиком, став кочевником, пол-России исколесил, по дорогам, как по учебникам, географию изучил. Все, что выпало, – выпало правильно. Я крепился, как мог: держись! Называлась моя география очень просто и веско: жизнь».
Странствия по России составляют в итоговой книге поэзии Валерия Хатюшина целый раздел – с 1970 по 1980 годы. И это странствия не только реальные, осязаемо земные, но прежде всего духовные. «Да, все стихи писал я о себе. Не потому, что занят был собою, но потому, что с каждою строкою я приближался к родственной судьбе… Вся жизнь моя в стихах, как на ладони, вся жизнь моя, и больше ничего». Стихи «Бетон и муза» («Я вновь от пневмотряски взмок, я целый день срубаю свои, я врос в отбойный молоток…»), «Лопата» («Никакая великая стройка не могла обойтись без нее…»), «Высота», «Устаю», «Актированный день» («Вели мы теплотрассу и примерзали к ней») подкупают сочной простотой и неаффектированной обыденностью описания каждодневного рабочего подвига. А потом «Поздний час»: «С пальцев кожу сдирая, после смены опять я весь вечер стираю. Мне привычно стирать».
Следующие разделы «Собрания стихотворений» представляют нам того же поэта, но уже как бы в новом качестве, а именно – взявшего на себя пророческую ношу! Грань, когда это внутренне с ним случилось, провести трудно. Но только его лирический герой заговорил одновременно и тем же, привычным, но более веским, гораздо большее берущим на себя, прозорливым голосом. Темы его стихов философски поднимаются, становятся эзотеричнее, по-тютчевски обобщеннее. Чувствуется, что он нащупал тот нерв, который связывает человека с эпохой. Как будто где-то там, на олимпийском Парнасе, русская Муза искала, кому доверить свой божественный голос, и вот ее выбор пал на рабочего поэта.
В 1982-м году Валерий Хатюшин читает на встрече с рабочими, своими читателями, стихотворение «Родина», после которого на него тут же заводится особая папка в органах и приходит донос в писательский союз – будьте к нему бдительны:
Россия, ты уходишь от меня.
Остановись!
Я больше ждать не смею!
Но с каждым днем все ближе и роднее
дом над рекой, колодец у плетня.
Что мне заменит Родину мою?
О чем сказать могу чистосердечно?
Я вижу этот дом и эту речку,
Россия, здесь тебя я узнаю.
Моя любовь давно уже не та…
Казалось мне, Россия, – ты святая.
И вдруг увидел я, что всем чужая
ты в этом мире, словно сирота.
Бесцельная, плутаешь, как во мгле.
Бурьяном заросла твоя дорога.
Россия, далеко ль уйдешь без Бога?
И есть ли путь без веры на земле?
Был «застой». Еще не было и в помине той атмосферы вседозволенности, которую мы потом назовем «гласностью перестройки». Безбожье культивировалось как особое высшее достижение советской власти. И вдруг этот, казалось тогда, поэтический вопль в административной пустыне. Не с этого ли вопля начался сегодняшний всем известный, но отнюдь не популярный и будто изгой среди сытых графоманов, Валерий Хатюшин?
Пройдет всего три года. В 1985-м к верховной власти в стране придет Меченый, и страна на десятилетия погрузится в болтливое вязкое болото. Начнется не первый у нас в России «переходный период».
Талантливый исследователь творчества Тютчева критик Евгений Лебедев (трагически ушедший от нас) писал, что именно в переходные периоды истории, когда разрушаются старые верования, а «новые сердечные убеждения» (Боратынский) еще не успевают утвердиться, когда духовный раскол, раздвоенность человеческой натуры носит почти фатальный характер, литература (а поэзия – наиболее чувствительная, наиболее раздражительная ее ткань) устремляет свои нравственные силы на то, чтобы «изведать, испытать» «всего человека», постичь его душевную смуту, охватить и выразить его роковое отчуждение от прежних идеалов и мучительную удаленность от новых. Но как раз в такой атмосфере и проявляется настоящий Поэт. И тут требуется прежде всего нравственная сила художника. Профессиональное мастерство может еще его выручить, когда жизнь облечена в строгие политические, религиозные и другие формы законности, когда личность занимает устойчиво определенное положение в обществе. Но когда писатель вынужден отражать еще не оформившееся содержание в неизмеримом многообразии новых вопросов, выброшенных в результате переворота на поверхность, тогда профессионализм пасует: необходима моральная смелость не отступиться от своего предназначения.
На лбу с отметиной кровавой,
захваченный всемирной славой,
он строит «европейский дом».
И превратив страну в Содом, –
ее залил речей отравой.
Три кресла подминает задом,
народным управляя стадом
в угоду мировым дельцам
и нашим «левым» подлецам,
пропахшим сатанинским смрадом.
…Идет буржуй походкой бравой,
доволен рыночной расправой
над обворованной страной…
Смеется за его спиной
последний Михаил Кровавый.
(1990 г.)
Вот здесь и сказалась та великая жизненная закалка, через которую прошел рабочий поэт Валерий Хатюшин. Собратья по перу дрогнули, как-то внутренне расклеились, студнем расползлись. Где они, когда-то гремевшие? Растерялись. Творческие погибли. Осипли, превратились в карикатуру на самих себя Евтушенко и Вознесенский. Ушли из жизни, не выдержав перемен, наиболее достойные: Владимир Цыбин и Валентин Сидоров – отказало сердце. Из поэтов старшего поколения только, может быть, Валентин Сорокин выдержал удар, не растерялся, остался личностью в своем творчестве. Однако и патриоты, и либералы в современной литературе одинаково оттеснены блудливыми пересмешниками «приговыми», пытающимися поймать рыбку в мутной воде. Но мы-то знаем, что от ерничества подобных остаются только мыльные пузыри.
Лирический герой Валерия Хатюшина встретил кромешный блуд разрушения Великой Державы с внутренним достоинством, без паники, без суеты. С осознанием наказания Божьего. Его оценки действительности трезвы и трагичны.
Они и мы – это не только у Пушкина, эта поэтическая антитеза в высокой русской поэзии постоянная величина. Она и у Тютчева и у Блока. При этом не надо ее даже вульгаризировать, опуская до примитивной конкретизации какого-то племени или класса, даже до обобщенных Запада и Востока. Они меняют свое обличье, свои земные клички и имена, оставаясь дьявольским воплощением. И мы с ними никогда не поймем друг друга. Мы – метафизическая православная общность со своим особым менталитетом и верой в свою особую близость к Богу. Мы – второй избранный народ, ибо первый не выдержал испытания. Высокая русская поэзия всегда глубоко задумывалась над этим вопросом и именно из него производила расчет наших национальных ценностей.
Они ненавидят Россию
за горы, поля и леса,
за реки ее голубые,
за травы и небеса.
…Жестокости их не убудет:
хоть трижды распнут, но опять,
покуда себя не забудет,
всё будут ее распинать.
(1968 г.)
Эсхатологически воспринимает лирической герой Валерия Хатюшина и октябрь 1993 года. Он смотрит на те события не со стороны, а как их живой участник, и кровь русских жертв до ужаса зримо проступает на страницах поэтического сборника, посвященных этому расстрельному рубежу – роковому для России в своей трагической развязке и до сих пор не определившему будущей судьбы русского народа.
Исподлобья взгляд несмелый,
свечи и цветы кругом…
Дом Советов, белый-белый,
разбомбленный черный дом.
Демократы, автоматы,
сумасшедший белый свет,
в касках русские солдаты,
пуль свистящих красный след…
…Стадиона трупный запах,
белый дом как черный дым…
Больше всего потрясло поэта, что русские солдаты стреляли в русских, как в проклятую братоубийственную Гражданскую войну. Только на этот раз действительность была еще страшнее, еще отвратительно инфернальней, потому что не было у расстрельщиков даже «подброшенной», пусть и лживой идеи, а только – иудины серебреники. Поэт рассказывает, что 13 ноября 1993 года над Красной Пресней многие люди были свидетелями видения в небесах образа Пресвятой Богородицы:
Стояли с непокрытой головой
под высотой небесного знаменья…
Ребят погибших день сороковой
совпал с моим печальным днем рожденья.
Сгоревший Дом – как траурная тень…
Он был ушедшим им уже не виден…
На Красной Пресне в этот скорбный день
со всеми плакал я на панихиде.
Их назывались Богу имена,
и хор церковный повторял молитву.
Я знал: на небесах идет война,
и вслед за ними – мы пойдем на битву…
…Они стояли здесь тринадцать дней,
и вот – ушли, оплаканные нами,
расстрелянные армией своей
за то, что не желали жить рабами.
Нас ждет тоска немереных дорог,
нас в прах испепелят иные грозы…
Вчера закон был с нами, нынче – Бог.
И в этот день Он видел наши слезы…
Стихи последних лет (после рокового октября 1993-го) слагаются в «Собрании стихотворений» Валерия Хатюшина в лирический реквием, скорбный и грозный, распахнутый навстречу России, которая умерла, чтобы – он верит! – вернуться в мир в новой силе. Мощно и плавно течение реквиема. Как ручейки, поддерживающие течение Реки, вливаются в него лирические струи. Через всю книгу проходит у Валерия Хатюшина любовная лирика (какой же поэт без нее?!). Но здесь любовные стихи становятся насыщеннее, пронзительнее. Особенно трогательны стихи, посвященные дочери. И, конечно, как у Тютчева, продолжает говорить на вселенском языке русская природа.
Последний снегопад дорогу заметает,
засыпаны по грудь колючие кусты,
снег мартовский скрипит и все еще не тает,
а белые поля – безмолвны и пусты.
Или:
Вечерний свет объял небесный запад,
как бы застыл малиновый закат,
в полях витает трав дурманный запах,
и тихо так, что листья не дрожат.
Что там за нашим русским горизонтом? Поэт, даже самый прекрасный, даже самый почвенно русский, – не всезнающий Бог. Он только пророк, только человек, пришедший к нам вестником Бога, только лучшее воплощение наших собственных смятений и чаяний, переживаний и грез. Лирический герой Валерия Хатюшина не скрывает, что он на распутье.
Научили нас громко смеяться
над судьбой незлобивой своей,
мы готовы уже отказаться
от печали бескрайних полей.
Вот и звуки, что были родными,
заглушил иностранный напев.
Очень скоро мы станем другими,
всё, что пели когда-то, презрев.
…Но придет ясноглазый Мессия,
Он укажет, как молния, путь,
и у спящей царевны – России
встрепенется остывшая грудь.
И сотрутся названья иные,
и воспрянет в сиянье берез
вся земля под названьем Россия,
а над ней – Царь Небесный Христос.
(1998 г.)
Кода это случиться? Когда вернется почва, ушедшая из-под наших ног? Что нужно, чтобы в народе проснулось национальное самосознание и мы снова нашли свое место под Богом? Поэт не дает нам ключа к сокровенной тайне, не называет заветных сроков. Но он, остро чувствуя нерв времени, нелицеприятно задает себе и нам роковые вопросы.