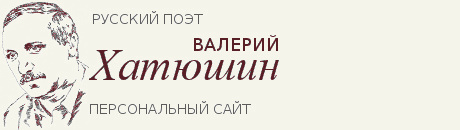ДОЖИТЬ ДО ЗАВТРА
(Дневник солдата)
Повесть
(От автора. В конце 60-х годов войска ПВО СССР в срочном порядке переходили на новый ракетный комплекс. По всей территории Советского Союза началось авральное строительство стационарных стартовых площадок)
17.06.1969
Моя солдатская жизнь круто изменилась. Собрали нас из разных подразделений Восточно-Сибирского округа и бросили на военную стройку. В этой глуши Красноярского края работать придется до самой зимы, а привезли нас сюда полмесяца назад.
Как знать, может, это и лучше, что меня сняли с дежурства на радиорелейной станции, где я имел много свободного времени, где я уже обленился и после двух лет службы ожидал только демобилизации. И вот — оказался, как нам объявили, «на строительстве объекта военного назначения».
Особо я не переживаю, нужно размяться, поработать физически, а то уже засиделся на своей спасительной станции.
Поселились мы в громадной палатке с двухъярусными койками. А вокруг — только лес, переходящий в тайгу. И еще — комары с мошкарой, которые нас уже замучили. Днем, когда жарко, мелкие мошки (их называют гнусом) тучей облепляют тело, и если их не отгонять, то они впиваются, как клещи. Ну а ночью невозможно спать от комаров. Укрываться с головой жарко, а если не укрываться — заедят.
Сначала полмесяца размещались, устанавливали стоместную палатку, кровати, строили кухню, столовую, пилили деревья, ровняли дорогу. Но главная работа вся впереди.
18.06.1969
Сегодня ставили бетонные столбы для огораживания территории объекта. Норма — 20 столбов на человека. День был очень жаркий и душный. Мы сняли гимнастерки и весь день нас донимала проклятая мошкара. Столбы тяжелые, устанавливали их вручную, и после 11 часов работы казалось, что поясница того и гляди переломится.
Здесь пока нет света, так что бриться стало для меня проблемой, потому что прежде, в части, я пользовался электробритвой. Лезвий у меня не было, и здесь их, естественно, нигде не возьмешь, приходится занимать у знакомых солдат.
От моего дивизиона, где я служил, мы находимся в пятнадцати километрах, а от деревни Ястребово, через которую идет дорога в дивизион, — в девяти. В последний год я частенько бывал там в увольнении… Перед отбоем я и еще два солдата решили идти в самоволку. Меня там ждала Галя… И после вечерней проверки мы пошли. Как только вышли на дорогу, пришлось прятаться от машины, которая возит на стройку воду, в ней сидел офицер. Затем всю дорогу бежали.
Добрались за 40 минут. Была уже полночь. Стояла тишина, и ни в одном доме не горел свет. Мы пошли в лес, на поляну, где обычно девушки жгут костры. По пути зашли на молочный завод. Там нас знакомая женщина от души напоила молоком и звала приходить еще.
На поляне около оврага горел костер. Мы подошли поближе. Среди девичьего смеха явно слышался мужской голос. Это мог быть один из молодых лейтенантов, которые так же, как и мы, ходят в самоволку из дивизиона. Костер горел у самого оврага. Мы спустились вниз, прошли по дну оврага и стали осторожно подниматься к костру, чтобы узнать, кто же там есть.
Подползли совсем близко и притаились в кустах. Вдруг от костра отделилась мужская фигура в трико и стала спускаться к нам, собирая сучья для костра. Мы сразу его узнали, это был один из наших солдат, со стройки. Мы окликнули его, он немного испугался, но подошел и тоже узнал нас, обрадовался, и, громко смеясь, мы поднялись к костру.
Там было много девушек, но, самое главное, среди них была Галя. Все они удивились нашему неожиданному появлению.
Минут через пятнадцать мы с Галей ушли от костра в лес… Потом мы с ней долго сидели на скамейке возле ее дома, я обнимал и целовал ее. Расстались мы в три часа ночи.
Назад я возвращался один. Девять километров показались мне очень долгими. Шел и всю дорогу сочинял стихи, вернее, вслух говорил стихами, которые потом забыл.
Когда добрался до стройки, ноги уже еле двигались. Спать оставалось полтора часа. Но самое главное, из начальства никто так и не узнал, что я был в самоволке.
28.06.1969
Не могу сказать, что я привык к работе на этой стройке и особенно к условиям нашей жизни. После двух лет службы все больше тянет на гражданку, к обычным людям. И еще эти проклятые комары беспощадно грызут нас и днем и ночью. Работать и так трудно, а тут еще жара и это беспросветное множество комаров и мошкары, от которых невозможно укрыться ни на минуту. Комары здесь большущие, злые, неуклюжие, не то что подмосковные, они тучей облепляют наши тела и успевают насосаться крови. В том месте, куда комар вонзает свой хобот, кожа краснеет, чешется, выступают болезненные волдыри. А мы, стиснув зубы, работаем, не переставая отмахиваться и извергая отборнейшую брань.
Но это еще полбеды. После 11 часов работы мы, уставшие, ложимся спать. Однако ночью — тоже жарко, а комаров еще больше. Уснуть невозможно. Палатка наполнена разноголосым нудным комариным гулом. Всю ночь мы ворочаемся, чертыхаемся, клянем такую жизнь и не можем заснуть. Многие выходят из палатки, бродят, бродят, потом ложатся прямо на землю, накрывают голову бушлатом и пытаются отключиться.
Я чувствую, что нервы мои уже не выдерживают, и от одного лишь жужжания комара возле уха меня бросает в дрожь. Лицо распухло от укусов, кожа под палящим солнцем шелушится и кусками сползает с лица, губы обветрились и потрескались, а вазелина ни у кого нет. Я понял, что комары — это настоящая пытка.
Вчера работали 15 часов вместо 11. Наша бригада поставила 29 столбов. 18 из них майор, начальник стройки, заставил выкопать и установить снова, уже после ужина, когда у нас должно быть личное время. Мы пытались договориться с лейтенантом, командиром взвода, не посылать нас на работу после ужина, потому что очень устали, и обещали завтра с утра всё доделать. «Никаких «завтра», — отрезал лейтенант. — Будете работать сегодня». Мы сдержали в себе злобу и пошли. Но половина бригады поначалу работать отказалась. Я и несколько других солдат сидели у костра и в дыму прятались от комаров. Лейтенант раскричался, пригрозил трибуналом и тем, что в субботу не отпустит нас в увольнение. Мы ему ответили, что мы не дети и сами знаем, что к чему, напомнили ему про устав. Но столбы мы установили, все-таки это армия.
10.07.1969
Уже более месяца я работаю на этой военной сибирской стройке. Все это время стоит жара выше тридцати градусов, и мы тут все стали черными от загара. Работаем по 11 часов в сутки, из них, наверное, около часа уходит на борьбу с комарами и мошкарой.
Весь прошедший месяц не было дождя. Воды поблизости нигде нет, искупаться негде, единственное, что хоть как-то спасает от жары и пота, — это душ перед обедом и ужином. А весь день — под палящим солнцем, в поту, в работе и в пыли.
Врубаемся лопатами в сухую глину и роем котлованы глубиной три метра. Техники очень мало, в основном — БСЛ — большая саперная лопата.
Недавно нас возили ставить мост на лесной дороге. Вернулись все в крови от укусов мошкары.
Каждый вечер чувствую большую усталость, появилось желание поспать даже днем, чего раньше не было. За все время, проведенное на стройке, новых стихов не написал. Только переписал из черновиков начисто несколько стихотворений и послал в газету. Работа забирает все силы и время, не могу сосредоточиться. Личного времени всего полтора часа, и уходит оно впустую.
Ни разу не был в увольнении. В последнюю субботу не пустил майор — начальник стройки. Припомнил мне недавний мой пролет — кто-то ему настучал, что я был однажды пьян. Я не знаю пока точно, кто меня заложил, хотя подозреваю кое-кого.
Но в ту же субботу, уже в четвертый раз, я ходил в самоволку. Опять три часа был вместе с Галкой. С ней мне очень хорошо. Она такая милая и нежная со мной, что я просто не понимаю, отчего это. Но ради всего этого стоит бежать к ней девять километров за 35 минут (натренировался, раньше пробегал за 40) и идти обратно пешком полтора часа.
Сегодня четверг, в субботу буду записываться в увольнение.
Я долго не вел этого дневника. Не было времени даже на это, не говоря уже о чем-то более серьезном. А писать так хочется!
В дивизион, в нашу бывшую часть, возить нас перестали, даже в баню, вторую неделю не моемся.
Присел на поваленное дерево, пишу эти строки, отмахиваюсь от комаров, а из палатки дымовыми шашками выкуривают этих кровопийц. Уже темнеет. Недалеко парни сидят в кружок на траве, поют. Женька Гребенков, ефрейтор, москвич, играет на гитаре. А вокруг — глухой лес.
Вот уже кричит дневальный: «Строиться на вечернюю прогулку!»
Завтра продолжу свой дневник.
11.07.1969
Была тяжелая работа. Сильно устали. Ужин задержали на целый час — не привезли хлеба. Ужинали перед самым отбоем. В моем распоряжении десять минут, и я достал эту тетрадь. Чувствую, что ноги от усталости уже не держат. Клонит в сон. Пока дожидались ужина, успел погладить гимнастерку, так как завтра суббота, и я собираюсь идти в увольнение. Брюки погладить не успел — выключили дизель, который дает свет. В палатке темно. Неужели опять не пустят? Вообще-то майор обещал отпустить.
Сижу возле палатки, пишу, а глаза слипаются от усталости. Скорей бы отбой. Многие уже лежат в одежде на кроватях.
Где-то звучит гитара…
13.07.1969
Вчера была суббота. Работали до трёх часов дня. Потом отдыхали. Я готовился в увольнение. Отпустили. В деревне встретился с Галей. С нею мы были три часа. Сначала танцевали в клубе, потом гуляли по улице. Она сказала, что во вторник уезжает и, возможно, надолго. У нее была такая красивая прическа, а в волосах — белый бант. Когда мы расставались, я взял этот бант на память до ее возвращения. И еще пообещал, что в воскресенье (сегодня) или в понедельник приду к ней в самоволку.
Сегодня утром после подъема не вставал до 9 часов и все равно не выспался.
Мне кажется, я здесь потерял способность писать стихи. В течение дня все время тянет ко сну, и в голове нет ни одной светлой мысли. За целый месяц не написал ничего хорошего. То ли обстановка так влияет, то ли постоянная физическая усталость. Неужели так же будет и дальше?
14.07.1969
Вчера вечером почувствовал себя плохо. Появилась тошнота, ничего не мог есть, болел желудок и всю ночь знобило. Сегодня утром лучше не стало. Остался лежать в кровати и на работу не вышел.
15.07.1969
Вчера, в понедельник, я все еще чувствовал себя неважно, по-прежнему не было аппетита и болел желудок. После обеда заступил в наряд — на ночную охрану автотехники. Но сразу после этого старшина велел мне сменить постели офицерам. Я отказался и пошел помогать своим ребятам чистить картошку. Старшина рассвирепел, снял меня с ночного поста и поставил кочегаром на кухню.
Я знал, что во вторник должна была уехать Галка, и потому решил идти к ней в самоволку. Не дожидаясь вечерней проверки, я ушел.
Погода была пасмурная, надвигались тяжелые тучи и рано начало темнеть. Я спустился в овраг, намереваясь лесом укоротить путь, чтобы выйти на дорогу, ведущую к деревне. Но очень скоро стало совсем темно. Трава в этом густом лесу была так высока, что ее приходилось раздвигать руками, чтобы она не мешала продвигаться. Я спешил, натыкаясь в темноте на пни, на поваленные гнилые деревья, иногда падал, поднимался и пытался быстрее идти дальше.
В конце концов я, видимо, отклонился в сторону от дороги, углубился в лес и в темноте потерял ориентацию. Но продолжал идти и вышел на какое-то поле, долго бежал по нему, надеясь все же выскочить на дорогу. И вдруг, когда я уже перешел на шаг, пристально всматриваясь по сторонам во тьму и надеясь разглядеть знакомые очертания местности, я услышал вдалеке звук мотора, похожий на треск мотоцикла. Затем увидел свет фары. Я бросился в ту сторону, где промчался мотоцикл и, наконец, вышел на дорогу.
Успокоившись и сняв гимнастерку, я побежал к деревне. Но тут началась гроза и хлынул дождь. С каждой минутой он усиливался. Насквозь промокнув, я решил возвращаться, ведь до деревни оставалось еще километров пять, а прийти к Галке до нитки промокшим и продрогшим мне не хотелось.
Я побежал назад. Когда до нашей стройки оставалось где-то полкилометра, я вновь увидел свет фары движущегося мне навстречу мотоцикла и тут же в несколько прыжков достиг ближайших кустов и скрылся за ними. Мотоцикл промчался мимо.
Весь мокрый и злой я вошел в палатку, когда солдаты еще не спали. Мне сказали, что старшина перед отбоем бегал, искал меня, кричал, чтобы я немедленно явился к нему. Но его сумели отвлечь каким-то другим скандалом, и он меня больше к себе не требовал. Я лег в постель и спал как убитый.
Сегодня весь день кочегарил в столовой. Болезнь вроде бы прошла. Вечером впервые за лето попробовал яблок — одному из ребят пришла посылка, а в ней — бутылка «Столичной». Оставили ее на следующий день.
16.07.1969
Пытался писать стихи. Получается с трудом.
18.07.1969
Работали с бетоном. Машины приходят и днем, и ночью, и нас не раз поднимали по ночам их разгружать. Спим и так плохо — донимают комары, а тут только уснешь — и тебя поднимают разгружать машины с бетоном.
Сегодня весь день бетонировали фундамент каких-то будущих корпусов, всё приходилось делать вручную. Обед перенесли на час позже. Пообедали — и тут же на работу, не отдыхали ни минуты.
После ужина сразу велели ложиться спать, потому что подъем будет в четыре часа утра.
Ноги еле таскаю. В самоволку уже давно не ходил. Стихи пишутся трудно, да и нет для них времени. Начались первые дожди этого лета, правда, недолгие. Может, скоро они будут идти чаще, и мы сможем хоть немного отдохнуть.
20.07.1969
Вчера работали с пяти утра до восьми часов вечера. Вымотались вконец. Еле вырвался в увольнение. А там случилось нечто непонятное и очень для меня неприятное.
Что-то странное происходит с Галей. Весь вечер она была надутой, не хотела со мной танцевать в клубе, не хотела идти на улицу и вообще отказывалась разговаривать со мной. Перед концом увольнения я все-таки вывел ее из клуба и спросил, что случилось. Она ничего определенного не ответила. Тогда я еще ее спросил: хочет ли она, чтобы я приходил к ней? Она опять не ответила и попыталась перевести разговор на звезды и на погоду. Мое настроение было испорчено.
Сегодня утром, в воскресенье, я написал ей письмо, где прямо сказал все то, что я думаю о наших отношениях. И еще написал, что не приду к ней, пока она не ответит. Потом ходил гулять в поле и сочинил несколько четверостиший. После обеда лег спать перед заступлением в наряд.
24.07.1969
22-го, во вторник, получил письмо от Гали, а в нем — всего пять слов: «Извини. Приходи. Жду!.. Твоя Галка». Но в тот день я работал 15 часов, и все время — таскали на носилках бетон. Закончили работу перед самым отбоем. Без всякой охоты поужинал и обессиленно рухнул на кровать. На самоволку сил не осталось.
Правда, целый день я думал о том, что обязательно увижусь с Галей, даже заранее побрился. Но в ту ночь никуда не пошел: лишь только добравшись до кровати, — уснул, как мертвый.
На следующий день, в среду, старался не перерабатывать, сохранял силы на ночь. И после вечерней проверки ушел в самоволку.
Один наш шофер сказал мне, что расстояние от палатки до деревни — девять километров двести метров, он засекал по спидометру. (Мои подсчеты оказались верными.) Я пробежал их за 35 минут.
По дороге около самой деревни пришлось прятаться от машины, в которой обычно ездит начальник стройки. Но самое неприятное ждало меня впереди. Оказывается, Галка-то утром этого дня уехала из Ястребова. Это меня ужасно огорчило, настроение опять испортилось, и я хотел уже было возвращаться назад. Но встретил там других солдат-самовольщиков, и мы пошли с девчонками в поле жечь костры. Возвратился в пять утра, спать уже не пришлось — в шесть подъем.
Сегодня весь день болели ноги и клонило в сон. Правда, после обеда я отвел душу, выспался на работе, так как офицера с нами почему-то не было.
28.07.1969
В субботу 26-го заступил в наряд дневальным. Перед ужином выпили водки. Затем ребята, которые вместе со мной находились в наряде, не дожидаясь отбоя, ушли в самоволку. Так я остался в наряде один — за двух дневальных и за ночного охранника автотехники. В три часа ночи самовольщики вернулись и передали мне, что в Ястребово приехала Галя, и что она просила, чтобы я завтра, в воскресенье, к ней не приходил. Я, конечно, воспринял это как шутку, но на душе остался неприятный осадок.
27-го я все же готовился пойти в увольнение. Из списка майор меня не вычеркнул.
Перед ужином я выпил кружку водки, а после ужина нас повезли на машине в деревню. Приехали как раз перед началом фильма в клубе. Я увидел Галю — она со своими подружками заходила в клуб. Я сразу к ней подойти не решился, за что себя весь вечер ругал. Все зашли в клуб, и фильм начался. Ну а мы, солдаты, пошли гулять по деревне. Я подцепил двух девчонок лет по семнадцать и морочил им голову до конца киносеанса.
Когда Галя вышла из клуба, я тут же подошел к ней, и мы пошли к ее дому. Там, сидя на лавочке, мы долго проговорили. Она призналась, что ей не хотелось никуда уезжать, что уехать ее уговорила подруга и что она в шутку сказала, чтобы я не приходил. Но в то же время она отстраняла мои руки, когда я пытался ее обнять. А мне так хотелось хоть на миг прикоснуться к ее губам! Ведь всю эту неделю я ждал встречи с ней, попусту бегал за девять километров, скучал, мучился. И вот теперь — был удивлен и очень огорчен ее поведением.
Привезли нас в дивизион в три часа ночи. Вот так я почти не спал уже третью ночь.
Сегодня настроение было паршивое, думал о Галке, за что-то злился на нее и на себя. Наверное, в моем сердце возникло нечто похожее на любовь, но я не хочу никому в этом признаваться, даже себе. Ведь и Галя прекрасно понимает, что наши с нею отношения ненадолго, что я скоро уеду, и мы расстанемся навсегда, а ей нужно еще учиться. И ей я не хочу говорить о любви, хотя, кажется, я и вправду люблю ее.
Работали в дождь. Рыли котлован под пусковую установку.
31.07.1969
Я вновь побывал в деревне. Вчера вечером вместе со своим командиром отделения я побежал туда. Бежали довольно быстро, в одном темпе, не останавливаясь, и одолели расстояние за 30 минут. Прибежали, искупались в речке и, войдя в деревню, сразу встретили девушек. Среди них была и Галя.
Гуляли мы с ней до двух часов ночи. В этот вечер мне с нею было хорошо. Она мне казалась как никогда красивой, я не мог наглядеться на ее глаза, губы и волосы, которые хотелось без конца целовать и гладить, а черное трико замечательно подчеркивало ее фигуру.
Но главное для меня было не в этом, а в том, что мне хотелось услышать от нее важные, главные для нас слова. Нет, я не услышал этих самых нужных мне слов, но она сказала, что очень ждала меня и что эта ночь — только для нас одних. А ночь была действительно прекрасна. Огромная сибирская луна висела в безоблачном темно-синем небе. Тихая звездная ночь, и ее бесподобные глаза, губы, щеки, волосы, которых я касался губами, и ее ласковый шепот…
Эти три часа нашего свидания пролетели, как несколько минут. Я чуть было не сказал, что люблю ее, сам не знаю, какая сила удержала меня от этого.
Сегодня работали на «горке» для локаторов. Стояла ужасная жара, градусов под сорок. Пот лил рекой с наших тел. На солнце нас так разморило, что перед обедом не было сил шевелить руками. После обеда весь взвод сидел в тени, в шалаше, и как ни кричал наш новый офицер «давай, давай!», на «горку» никто из нас уже не поднимался.
Сегодня мы мечтали о прохладе и о дождях. Интересно, о чем будем мечтать, когда это настанет?
9.08.1969.
С утра 6-го числа майор, начальник стройки, послал меня вместе с другими солдатами в тайгу за ягодами. До ягодных мест было километров двадцать, но дорога туда состояла из сплошных ухабов, ям и колдобин, и наш грузовой «газик» на них чуть не перевернулся. Но как только доехали до места, все дорожные неприятности сразу же забылись: войдя в лес, мы увидели, что он весь был усыпан ягодами. Всё вокруг было красным-красно от малины, бузины и смородины, которую здесь называют кислицей.
«Газик» уехал, а мы первым делом кинулись собирать малину. Быстро набрали по ведру, сами наелись досыта и завалились спать до прихода машины, благо, что в августе комары и мошкара уже почти не донимают. Но я, в отличие от остальных, почему-то не мог уснуть и пошел пройтись по лесу вдоль дороги. Взошел на высокий холм, и передо мной открылось величественное море тайги (как в песне). Я просто застыл перед этой беспредельной, необычайной красотой: громадные вековые хвойные деревья и над ними — высоченные, устремленные ввысь остроконечные ели.
Тайга — это не наш подмосковный лес, по ней прогуляться не получится. Трава — с человеческий рост, сплошные заросли кустарников и на каждом шагу поваленные гниющие стволы. Одним словом — сибирские джунгли. Но хвойные деревья — благородные, громадные, некоторые в несколько обхватов, много кедра и пихты, которых я прежде почти и не видел, разве что в Москве в ботаническом саду. Но и там такой громадности не было.
По пути назад офицер, сидевший в кабине «газика», по своим делам завез нас в дивизион, где мы служили до стройки, и там тайком за флягу водки мы продали другому знакомому офицеру полведра малины. И потом, сидя в кузове, пока ехали к себе на стройку, мы ее распили.
На следующий день я работал на строительстве подземного убежища — в глубоком котловане, на дне которого орудовал экскаватор, а мы выравнивали стенки котлована. Уже было не так жарко, как прежде, и к концу дня я почти не устал.
После отбоя пошел в самоволку. Вернее, как всегда, побежал. На этот раз я преодолел 9 км за 25 минут. Это был мой личный рекорд.
Галя оказалась дома. Знакомые девчонки позвали ее. Она вышла, накинув пальто на легкое платьице. В эту ночь мы с ней гуляли долго. Бродили по всей деревне, сидели на разных скамейках и без конца о чем-то говорили. Как ни странно, на этот раз она не спешила домой. Ночь была теплая и ярко-звездная, как это бывает здесь накануне осени. Падающие «звезды» то и дело прочерчивали небо красными полосами, а мы пытались успеть что-то загадать и не успевали.
Галя призналась, что иногда вела себя излишне холодновато со мной и что вообще, как ей кажется, она может быть жестокой. Я сказал, что не знаю, как насчет жестокости, но вредной она бывает довольно часто. Это была, конечно, шутка, но в каждой шутке…
Я долго целовал ее перед расставанием. Лицо, руки, шею, плечи… И она сама прижималась ко мне и ласкала, как любимого… Я обещал, что приду завтра, в субботу, или в воскресенье. Расстались мы в два часа ночи. Назад я шел радостный и счастливый.
Перед подъемом мне удалось поспать всего два часа. Как только мы пришли на работу к котловану, я тут же нырнул в кусты, нашел укромное место и завалился спать. Наш офицер, лейтенант-необстрелок, который старше меня всего на год, через некоторое время сообразил, что среди работающих меня нет, походил кругом, поискал, но не нашел.
Когда я вернулся в котлован, он сразу кинулся ко мне с вопросом: где я был? Я сказал, что спал. Вечером он доложил об этом начальнику стройки, и тот пообещал мне, что я буду работать в воскресенье.
После обеда (всё же — суббота) мы не работали, но, как нарочно, надолго зарядил дождь, и бежать в деревню было бессмысленно. Вот я и пишу эти строки в своем дневнике. Может, после ужина покажут какой-нибудь фильм, если привезут.
15.08.1969
Пятница. Вечер. Нахожусь в наряде на кухне. Весь день мыл посуду, наводил тут марафет и только что закончил чистить картошку. А ее нужно на 150 человек. На душе скверно.
Перед обедом была драка. Один дубоватый узбек за что-то ударил в лицо москвича Лаврухина (я в это время прилег вздремнуть ненадолго). Тот поднял меня, позвал дневального, тоже москвича, и мы пошли разбираться. К тому узбеку присоединились тоже два земляка. Но тот, первый, дуболом, оказался психованным — схватил топор и вновь бросился на Лаврухина. Мы с дневальным успели сбить его с ног и вырвали топор. Думали, что он остепенится, но не тут-то было. Он вскочил, побежал на кухню, где был поваром еще один его земляк, схватил огромный тесак и кинулся уже на меня. Я успел только крикнуть: «Брось нож!», но он ничего не соображал — летел на меня с дикими глазами и с тесаком в руке. И тут уже дневальный ударил его ногой в бедро, отчего он упал на колени. К нему подскочили два других узбека, вырвали тесак и стали успокаивать. Но он с озлобленной мордой достал из кармана другой, складной нож, однако обнажить лезвие не успел — мы с дневальным, быстро подскочив к нему, начали молотить его кулаками с двух сторон. Избили в кровь, а нож забрали. Его земляки — не вмешивались.
И вот сейчас сижу в столовой перед ужином, пишу, а настроение отвратительное, как будто меня и вправду ножом пырнули.
В прошедший понедельник был в самоволке. Полночи провел с Галей. Нам вновь было хорошо и радостно вдвоем.
Погода резко испортилась, то и дело идут дожди, ночи стали холодными. В нашей палатке все спят в одежде и под двумя-тремя одеялами, и все равно под утро такой колотун, что от дрожи уже никому не спится. Как говорят ребята, «потеем, дрожавши». Но после команды «Подъем!» вставать не хочется — на воздухе еще холоднее. Старшина орет и всех стаскивает с кровати за ноги.
Что же будет в сентябре, когда выпадет снег?..
21.08.1969
О нашей драке с узбеком на следующий же день узнало начальство. Для нас никаких последствий не было, даже на разговор не вызывали, а его со стройки увезли, и он сюда уже не вернулся.
Я снова в наряде — на ночном посту. Днем перед ночным нарядом мы отдыхаем, и я до обеда спал, а все работали, хоть и шел дождь. Мне было отчего отсыпаться — прошлой ночью я бегал в деревню к Галке. И до этого, 17-го, в субботу, тоже вечером был с ней. Тогда я ушел до вечерней проверки и попал на танцы. Из солдат я там оказался один, и другие девчонки с завистью смотрели, как мы танцевали с Галей. Вчера же допоздна сидели с ней на лавочке, пока не вышла ее мать. Через девять дней она уезжает в город, будет там продолжать учебу. Когда снова увидимся — неизвестно.
Зарядили дожди. Сапоги не просыхают. Работаем в грязи, в воде, роем новые котлованы — вручную. У руководства стройки семь пятниц на неделе, не работа, а дурдом какой-то. Одни начальники приказывают делать одно, приезжают другие и заставляют всё переделывать наоборот. А два дня назад начальник стройки за то, что мы в этой липкой глине долго возились с котлованом, лишил нас дополнительного пайка — 20 г масла на ужин.
Похоже, здесь я испортил желудок — постоянно чувствую боль. Боюсь, как бы не началась язва. Отсюда многие попали в госпиталь с испорченным желудком. Еда и впрямь плохая, грубая, селедка — ржавая, а мясо часто с неприятным запахом. Но в санчасть вряд ли меня отпустят.
28.08.10969
Всю прошедшую неделю работали под холодным мелким дождем и в липкой грязи. По ночам мерзли в своей палатке под тремя одеялами, а вечерами, если не моросил дождь, сидели у костра, пытались что-то напевать под гитару.
Кончается август, скоро осень, листья на деревьях уже начинают желтеть, а ночью на землю ложится густой темно-серый туман. Воздух сырой и знобкий. Сегодня среди ночи вышел из палатки — небо чистое, синее, и яркая огромная луна. Светло, как утром, и тихо. Деревья — не шелохнутся. Надолго запомню я эти светлые, тихие сибирские предосенние ночи. Написал стихотворение «Потянулись косые дожди…»
Слышал, что нас, дембелей, отпустят домой в ноябре. Осталось два месяца. Вроде бы совсем мало, но как их прожить…
31.08.1969
Лето закончилось. Жалко и грустно. Вроде бы впереди моя последняя осень в Сибири. Скоро я должен уехать отсюда. А мне очень грустно. Может, потому, что здесь останется моя солдатская молодость и что этих молодых лет уже не вернуть. И еще потому, что скоро придется расстаться с Галей — навсегда. И думать об этом с каждым днем все грустней.
Моя милая Галя… Сколько счастливых минут она мне подарила! Сколько радости и сердечных переживаний доставила она простому солдату! И вот мы расстанемся… Не могу представить, как это произойдет…
Вчера, в субботу, с нашей стройки никого не отпустили в увольнение. После вечерней проверки я побежал в деревню. И там возле клуба увидел Галю. Ничего подобного я раньше не видел. Она была так красива, так необычна, что внутри у меня от удивления разлился какой-то жар...
Я уже писал, что она временно переезжает жить в город Ачинск — будет там заканчивать 10-й класс. А вчера они с подругами решили устроить проводы лета: у одной из них заранее накрыли стол и пригласили нас, трех солдат, с которыми они встречались.
Давно я не сидел за домашним столом. Выпили, потом танцевали, пели под гитару, я прочитал стихи. Галя приготовилась к моему приходу — сделала красивую прическу, подкрасила губы и глаза, на ней было облегающее короткое платье... Я не мог на нее налюбоваться — сидел рядом и, как жених, млел от удовольствия. Я пил водку, а она, понемногу, вино.
Потом пошли прогуляться по ночной деревне. Походив, сели на лавочку, и я, пьяный от выпитого и избытка чувств, сказал: «Я люблю тебя». Да, я сказал ей это. И еще не раз повторил: «Я люблю, люблю тебя…» Галя молчала и только сильнее прижималась ко мне. Она была безумно красива вчера и так ласкова, так нежна со мной, что ничего другого, кроме этих трех слов, я говорить был не способен.
Расстались мы утром, когда уже светало. Наши лица горели от поцелуев и ласки.
Назад я еле шел, качаясь и засыпая на ходу. Я машинально брел к своей палатке, и какое-то непонятное, тоскливое чувство сдавливало мне сердце и горло. Ужасно хотелось быть рядом с Галей, чувствовать ее всем собой, навсегда остаться с ней, но армия, но эта служба рушили все мои желания, стремления и надежды. 9 км я преодолел за два часа, в палатку вошел перед самым подъемом — обессиленный и подавленный. Лег на чужую кровать, потому что моя была занята кем-то из самовольщиков, вернувшихся раньше меня. На завтрак не встал, и ребята поставили мою порцию в тумбочку. Но в десять часов утра начальник стройки поднял всех нас (в воскресенье) и приказал идти на работу.
Я еле стоял на ногах. Ребята из нашей бригады сказали, чтобы я шел спать, а они справятся с нормой сами. От меня и впрямь толку было мало. Я взял два бушлата и ушел спать в лес, в шалаш. Перед обедом меня разбудили, и мы на четверых распили бутылку «Российской», после чего я почувствовал душевное и физическое облегчение.
Я рассказал ребятам о вчерашнем вечере, и мне вновь стало грустно. Галя уже уехала в Ачинск на неделю. Вернется в деревню только в субботу. И так теперь будет постоянно. В будние дни мы не сможем уже видеться. В следующую субботу, если не дадут увольнения, вновь побегу к ней. Это какое-то сумасшествие. С моей душой что-то случилось — я не знаю, как доживу до нашей встречи…
Вечер. Снова ненастье. Начальник стройки пьян, и потому те солдаты, кого раньше он не отпускал в увольнение, сегодня были отпущены и на машине поехали в деревню. Мне ехать не к кому. Я сижу на кровати, пишу этот дневник, и мне холодно даже в ватном бушлате. В другом конце нашей огромной стоместной палатки кто-то бренчит на гитаре, кто-то подпевает…
Я сижу один и тихо повторяю: «Моя милая, милая, хорошая… Как я люблю тебя, люблю…» Пробую говорить стихами. Но говорить стихами труднее, чем ими думать. Я часто думаю стихами, это не трудно. Я могу думать ими долго и непрерывно. Но вот как только пытаюсь вслух стихами заговорить — мне что-то начинает мешать, я задумываюсь и не могу сразу подобрать нужные слова.
Мне почему-то давно уже никто не пишет, кроме матери. Может, теперь начнет писать Галя… За лето от нее не было ни одного письма. А когда-то, сразу после знакомства, мы писали друг другу через день…
7.09.1969
Воскресенье. Шесть часов утра. Все еще спят, а я — дневальный. Вчера меня не пустили в увольнение, и я обругал лейтенанта. Тот написал на меня рапорт командиру дивизиона и отдал его на подпись майору, нашему начальнику стройки.
12.09.1969
Пятница. Дело с рапортом майор, кажется, замял. Он вызвал меня к себе и показал этот рапорт, в котором лейтенант просит ходатайства комдива о предании меня суду военного трибунала за оскорбление личности. Начальник стройки оказался нормальным мужиком, спросил: как это могло получиться? Сказал, что всегда был обо мне хорошего мнения, и дал понять, что всё уладится. Да, надо быть осторожнее и сдерживать нервы. Осталось служить каких-то полтора месяца, а я чуть было не испортил себе всю жизнь.
Стало совсем холодно. Без бушлата на воздухе уже не посидишь. Хотя сидеть почти не приходится. Как и прежде, работаем помногу. Роем новый котлован. На нас пашут, как на лошадях. Начальник стройки поспорил с комдивом на ящик коньяка, что к концу месяца котлован будет сдан, и мы теперь этот спор должны отработать.
Утром не хочется вылезать из постели — в палатке холодно и сыро. Но я заставляю себя резко встать, пока все еще спят, и по пояс голый выбегаю из палатки, делаю зарядку, потом под душем обливаюсь холодной водой и растираюсь полотенцем. Вот так и согреваюсь.
Целый день роем глину. Летом она была твердая, как камень. Теперь же — сырая и размякшая, еле отрывается от земли и намертво прилипает к лопате. А у нас норма — один кубометр в час. За десять часов работы нужно вырыть 10 кубометров. Никто эту норму не выполняет, потому что это физически невозможно. Но от нас все равно требуют то, что положено сделать.
Сегодня вечером в лесу выкопали из земли тридцатилитровую флягу, в которой у нас бродила настойка из черемухи. Эту флягу мы закопали две недели назад. Сегодня решили попробовать, что получилось. Открыли, выпили по кружке — понравилось. Правда, слабовата, но зато запах и цвет чего стоят! Много пить не стали, закрыли и снова закопали в землю, пусть дальше настаивается.
Пишу — и мерзнут руки. Что же будет дальше?
4.10.1969
В самоволки не бегаю. Во-первых, холодно, дожди, ночью подмораживает, в сентябре уже не раз выпадал снег. А во-вторых, Галя в будни находится в Ачинске и приезжает в деревню только на выходные. Но в увольнение нас теперь не отпускают. Мне передали, что она уже спрашивала, почему я не прихожу. Да я и сам очень хочу ее увидеть, но в то же время не понимаю: почему она не может мне написать? Ведь я же сказал ей, что люблю ее. И никакой весточки от нее до сих пор не получил… Странно мне это. Хочет меня видеть — пусть черкнет пару строк…
К тому же перед дембелем не хочу новых проблем из-за самоволок. Осталось-то, наверное, всего ничего. А проколешься — и могут дембель задержать.
9.10.1969
Погода мерзкая. Дождь, грязь, слякоть. Сапоги не просыхают. И вот в мокрых, разбитых сапогах ходим каждый день на работу, от которой уже нет никакого толку. Месим грязь и глину.
Два дня болели зубы, причем совершенно здоровые. Распухли десны и лицо, жевать больно. Вчерашнюю ночь не мог спать — промучился с зубами. И без того спать холодно, а тут еще эта напасть. Видимо, от сырости и холода, а заодно и от плохой пищи. В палатке хоть и стоит буржуйка, но от нее проку мало. Рядом с ней еще можно согреться, но целыми днями и ночами — дрожим. Я не бреюсь вторую неделю, как и многие другие. Глядя на нас со стороны, не скажешь, что мы в армии.
Когда же кончится такая жизнь? Осточертела. Не знаешь, как дотянуть до завтра.
Пришло письмо из дома. Там меня ждут не дождутся.
14.10.1969
Скоро отбой. Я сижу в столовой и при тусклом свете делаю запись в своей тетрадке.
Утром на разводе одного нашего парня посадили в холодную будку, вроде как на местную губу. Старшина раздел его до гимнастерки и затолкал туда, а там дуборно, как под открытым небом. Они не имели права это делать, и я высказался, заступился за парня, сказал, что это бесчеловечно. Капитан объявил мне пять нарядов на работу за разговор в строю. И это всё, чего я добился. Справедливость и человечность — это не для нас.
От начальства пошел слух, что через два дня наша работа должна закончиться. Мы напомнили капитану об обещанном ДП (дополнительном пайке), и он дал нам по банке тушенки на двоих.
Прошедшие дни занимались бестолковщиной — выкачивали воду из котлованов. Днем выкачивали, а ночью они опять наполнялись от дождей. Дурь какая-то — зачем выкачивать воду, если всех отсюда скоро увезут, выкачивать будет некому, и котлованы вновь переполнятся? Зимой их завалит снегом, а весной они превратятся в бассейны. Но, кажется, до начальства что-то дошло, и эта глупость была остановлена. Или, может, нас просто нечем было занять?..
Вчера привозили кинофильм, вторую серию «Войны и мира». Нужно, конечно, видеть нас со стороны — то, как мы смотрим кино!.. Это цирк! Нас самих можно снимать для фильма о Гражданской войне. Все взбираются на двухъярусные койки. Кто сидит, кто лежит по нескольку человек на кровати. Кто в чем, одни разутые, другие в рваном грязном бушлате, третьи в такой же шинели, а кто-то в замусоленной гимнастерке. У одного погоны курсантские, у другого солдатские, а у третьего их нет совсем. Небритые, с усами (что в армии запрещено), лохматые, и почти все курят. В палатке стоит смрад от папиросного или махорочного дыма, от коптящей буржуйки, от сохнущих портянок и сапог. Сплошная анархия.
Даже не верится, что когда-то это всё кончится.
16.10.1969
Вчера ночью начался ураган. Ветер с таким остервенением рвал и расшатывал палатку, что, казалось, она вот-вот улетит. Утром подняли на работу. Глина замерзла, и грязи почти не было. Ветер пронизывал насквозь, было трудно дышать. Мы пытались разжечь костер, но ветер его задувал, и согреться было невозможно. Гудронировали убежище. Потом на гусеничном тягаче ездили в поле за сеном, подъезжали к скирдам и грузили в тягач, но ветер то и дело его срывал и уносил. И все равно мы упорно продолжали возить в убежище сено — как нам сказали, для утепления. В конце концов тягач сломался. Конечно, железо слабее человека. Мы легли в сено и ждали. Чего ждали — никто не знал, но уходить было нельзя: раньше времени возвращаться в палатку строго запрещено. И мы лежали в сене на страшном ветру, спрятав лица в бушлаты. Я невольно задремал. Когда же проснулся, то почувствовал, что весь дрожу и что ноги совсем окоченели. Мы вылезли из сена и побрели в палатку за час до обеда. Но палатка вся ходила ходуном и во многих местах порвалась от сумасшедшего ветра.
Столовая у нас без стен — пол, столы и крыша. Так что обедали тоже на ветру. Еда мгновенно стыла, и мы старались быстрее управиться с ней. Скоро, как всегда, у меня началась изжога и опять заболел желудок.
После обеда нас послали помогать другой бригаде. Накрывали соломой еще одно убежище. Солому возили с полей на КрАЗе — можно сказать, воровали у совхоза. На одно убежище уходит до 20 КрАЗов соломы. А тут четыре убежища. Так что мы свели на нет огромный труд работников совхоза. А ведь работа наша ненужная. За зиму с пустыми убежищами ничего бы не случилось.
Как обычно, вечером солдаты сидят возле печки и поют под гитару. Даже ветер и холод не портят их настроения. Впрочем, здесь больше нечем заняться. По транзистору сообщили, как семь наших космонавтов летают в космосе. Но никто этого не слушал, и никого здесь это не волнует.
Вспомнил о комарах и летней жаре, в которой нам было так же плохо.
До ноября осталось каких-то полмесяца. «Каких-то»… Для меня это целая вечность. Нужно продержаться и, главное, не заболеть.
19.10.1969
Валит снег. Земля замерзла. В умывальнике вместо воды — лед. После подъема пошел на кухню, набрал в кружку воды из бочки, вышел на ветер и умылся. Но многие вообще перестали умываться по утрам. Капитан сказал, что сегодня — «последний аккорд» нашей работы на стройке. Но я сегодня дневальный.
Звонил в дивизион. Там завтра начинается полковая проверка. По всему дивизиону проводят шмон. На моей релейной станции ребята обещали перепрятать в кинобудку мои тетради и книги. Опасаюсь за свой чемодан с рукописями и письмами.
Все время мерзнут ноги и руки, согреваемся только у печки. Палатка продувается ветром, хоть она вся наглухо задраена и в ней стоит постоянный мрак. Живем как в пещере, натыкаемся друг на друга. Курсантов отсюда уже увезли. На ночь я укрываюсь пятью одеялами и еще сверху бушлатом.
Начальство говорит, что скоро отсюда съедем.
23.10.1969
Все еще нахожусь на стройке. С отъездом отсюда — тянут. Каждый день находят новую работу, говоря, что, мол, как только ее закончите, так сразу и уедете. И мы верим, работаем «аккордно».
Вчера уехали красноярцы. Когда они собирались в отъезд, мы, ачинцы, были на работе. Они перевернули вверх дном всю палатку и перетряхнули все тумбочки. У меня теперь нет ни мыла, ни зубной щетки с пастой, ни полотенца. Но эту тетрадь я прячу под наволочкой в подушке.
Мороз усилился. Для умывания воды нет совсем. Почти вся техника разъехалась, а мы остались. Из-за отсутствия воды вчера не было ужина, и нам выдали сухой паек. Сегодня старшина на вездеходе привез хлеб, махорку и почту. Мне было письмо от матери. Дома меня очень ждут.
Сегодня строили казарму, месили бетон, который на морозе схватывается, а вместе с ним «схватывались» и ноги в разбитых сапогах. Работали почти без перекуров и только по очереди бегали по одному к костру, чтобы отогреть ноги. А вчера после отбоя ходили разгружать шлак.
Холод по ночам уже пробирает под пятью одеялами. Палатка раскачивается от ветра, канаты — звенят, а ходящие ходуном «стены» толкают кровать и обрывают сон.
Сегодня сюда приезжал зам. командира дивизии. Сказал, что нам нужно быстрее разъезжаться. Ну да, а то мы без него этого не знаем…
31.10.1969
Даже не помню, какой сегодня день. Кажется, четверг. Случилось то, чего я совершенно не ожидал и даже не предполагал, что это случится, что меня оставят здесь, в лесу, неизвестно на какой срок. Уже пятый день я живу в офицерской будке. 25-го я просил, чтобы меня здесь не оставляли, но начальство не хотело и слушать. Нас, трех рядовых и одного сержанта, отвезли на дивизион, там мы вымылись, выбрились, подстриглись, и тут же нас отвезли назад, на бывшую стройку. Всех остальных развезли по дивизионам. Нам оставили продукты, карабин без патронов и приказали следить за стройкой, уже заваленной снегом.
В первый день мы устраивали и утепляли свое жилье — офицерскую будку. Она тоненькая, летняя, быстро охлаждается, ее продувает ветром, а морозы уже стоят серьезные. Заготавливали дрова, ведь их надо будет много, чтобы нам не замерзнуть среди ночи. Работали все эти дни так, что некогда было домой написать и взяться за дневник. Рядовой Шубкин сходил в ближайший совхоз и принес бутылку «Московской». Приезжал капитан, привез яблок, печенья, конфет, но самого нужного не привез. Нам позарез нужен аккумулятор для света — ведь готовить ужин, да и ужинать приходится в полной темноте, на ощупь, нам не оставили даже керосиновой лампы. Нет лезвий, чтобы бриться, нет воды, чтобы готовить еду. Приходится на печке-буржуйке растапливать снег, от которого воды получается очень мало, и она совершенно обессоленная, противная, на нее уходит много соли.
Телефон молчит. Долго искали обрыв провода, пришлось залезать на столб без когтей, с помощью проволоки. Безрезультатно. На пятый день продукты оказались на исходе, а позвонить в дивизион было невозможно. Капитан сказал, что продукты будет привозить старшина. Но мы знаем этого старшину, которому всё по барабану. И еще капитан сказал, что после 7-го ноября начнут увольнять дембелей. Обещал, что меня уволят в первую очередь. Но верится плохо.
Только сегодня написал матери. Уже и не знаю, удастся ли вернуться домой к своему дню рождения…
Сержант Линкевич с рядовым Шубкиным ушли искать обрыв связи, по пути зайдут в совхоз, возьмут четыре бутылки «Московской» к празднику. А мы с рядовым Короленко работаем здесь, утепляем будку, готовим обед, расчищаем снег. Пока всё, надо идти работать.
1.11.1969
Вот уже и ноябрь. Я был уверен, что это последний месяц моей службы. Как я его ждал! Два с половиной года! Сколько всего пережил! Но будет ли он последним — уже и не знаю толком. Третий год идет, как я покинул родные места, и ни разу не побывал дома.
Да, я всё еще здесь, в Сибири, — живу в лесу. Сижу в нашей маленькой дощатой холодной халупе, где летом ночевали офицеры, возле самодельной печки-буржуйки, растопить которую — настоящее наказание для каждого из нас. Она дымит, гудит и пыхтит, как паровоз, и, разогревшись, отдает тепла ровно столько, сколько нужно, чтобы утром не проснуться с отмороженными носами. Правда, есть еще печь на кухне бывшей столовой. На ней мы и готовим себе еду.
Возле маленького окошка с одним треснутым стеклом стоит на столе купленная нами в деревне керосиновая лампа, рядом с которой по вечерам, когда воет вьюга, а наша несчастная буржуйка словно подвывает ей, в полумраке, прижавшись друг к другу, мы читаем книжки, пишем письма и даже «забиваем козла».
Часто в наше окошко заглядывает по-зимнему маленькая луна. Я долго смотрю на нее, сидя у дрожащего огня тусклой лампы, и, кутаясь в бушлат, мечтаю о чем-то очень далеком. В такие минуты я думаю о Гале.
Шубкин и Короленко ушли за водой в лес, на ручей. Это довольно далеко, надо по сугробам тащить сани с большими флягами. Давно пора варить обед, а их всё нет. И я для обеда растапливаю снег: кто их знает, когда они возвратятся? Линкевич утепляет стены будки, чтобы ее не продувал ветер. А снега вокруг навалило чуть ли не по пояс. Зима здесь начинается рано. Морозы ударили крепкие.
Сегодня суббота. Решил вечером сходить в деревню. Давно я там не был. Даже не представляю, как меня встретит Галя, будет ли рада…
Продукты не завезли. Надо чистить картошку. Может, про нас уже забыли?
2.11.1969
Вчера в семь часов вечера с сержантом Линкевичем мы ушли в деревню. Перед этим я в полутемноте приготовил обед, в полной темноте пообедали и поужинали одновременно, в полной темноте побрились, переоделись во всё теплое и пошли по сугробам и колдобинам в Ястребово, куда я всё лето бегал к Галке. 9 км прошли за полтора часа. По случаю воскресенья в клубе были танцы. Оказалась там и Галя. Увидев меня, она заметно заволновалась. Я подошел к ней. Окруженная подругами, она сидела с опущенными глазами. На лице отражалось смятение. Я перекинулся несколькими остротами с ее подругами и затем пригласил на танец. Во время танца она сказала, что лишь день назад узнала о том, что я до сих пор нахожусь в лесу.
«А ты похудел», — заметила она, ласково взглянув на меня. Похоже, Галя старалась скрыть свою радость от нашей встречи. Но я своей радости не скрывал — танцевал с ней и открыто улыбался. Но стоило нашим взглядам сойтись — и она тоже не могла сдержать улыбки.
После танцев мы долго гуляли по главной деревенской улице. Была тихая, прекрасная ночь. Галя несколько раз повторила, как ей хорошо сегодня. Она не мерзла, как обычно, и не спешила домой. Сказала, что со мной ей ничего не страшно, что одна она ни за что не пошла бы ночью по деревне.
Мы стояли у ее изгороди, прижавшись друг к другу и говоря о каких-то пустяках. Я поднял ее лисий воротник и опустил на него свое лицо. Потом долго и много ее целовал и, разволновавшись, вновь повторил слова, сказанные ей два месяца назад: «Я люблю тебя». И еще несколько раз произнес это. На прощание сказал, что каждый день буду думать о ней. Мы договорились встретиться в ее каникулы, которые начинаются завтра.
Оказывается, после каникул она будет жить и учиться в деревне Ключи, которая ближе к нашей стройке, но туда нет от нас дороги. Между нами — лес. Но я все равно этому обрадовался. На лыжах туда можно добираться быстрее. Надо только раздобыть лыжи.
У нас закончился хлеб. Завтракали и обедали без хлеба. Но самое главное — мы восстановили связь с дивизионом и сообщили, чтобы нам срочно привезли продукты. К нам на вездеходе едет старшина. Он заберет нас на дивизион, мы там помоемся в бане, заберем продукты и вернемся назад.
4.11.1969
Еще один вечер. Я сижу у керосиновой лампы и пишу. За темным окошком гудит ветер. И больше ни звука. Шубкин и Короленко ушли в Ключи. Линкевич, сидя напротив, читает книгу.
Вчера ночью, возвращаясь из Ключей, Шубкин обнаружил в своем самодельном капкане (оселке) зайца. Притащил он его, когда мы спали, большущего, белого, пушистого, а утром ошарашил нас своей добычей. Мы не могли нарадоваться, ведь у нас закончилось мясо. С утра начали разделывать этого зайца. Причем до этого никому не приходилось снимать шкурку. Но мы это сделали, правда, долго повозились, но сняли хорошо. Шкурка получилась прекрасная, мех чисто белый, густой, зимний. Может быть, я возьму эту шкурку домой на память. Теперь у нас будет мясо, мы его отложили до 7 ноября.
8.11.1969
Вчера мы решили устроить праздник. 6-го числа привезли нам продукты на девять дней, даже угощения. Но вдобавок ко всему — доставили сюда молодого лейтенанта. Призванный недавно на два года после института, он поначалу показался нам свойским парнем. Весь вечер травил байки о своих похождениях на гражданке, пьянках, женщинах — и сразу вошел к нам в доверие.
С утра 7-го мы начали готовить праздничный обед. Зажарили зайца, наварили картошки, риса, открыли консервы. Лейтенант, похоже, заподозрил что-то неладное и угрюмыми глазами смотрел на то, как мы раскладываем закуску. В час дня стол был накрыт, все расселись, и Шубкин достал бутылку. Лейтенант недоуменно, даже как-то испуганно взглянул на нее. Ведь его прислали как раз для того, чтобы мы на праздник не напились и никуда не отлучались отсюда. А тут ему самому предлагают участвовать в выпивке при такой обалденной закуске.
— Меня увольте, — опустив голову, с грустью сказал он.
Шубкин разлил бутылку по стаканам на всех пятерых и достал вторую. Лейтенант побледнел.
— У вас их тут что, целая батарея? — испуганно удивился он.
— Это всё, больше нет, — слукавил я и, улыбаясь, добавил: — Товарищ лейтенант, при таком закусе вы не сможете отказаться…
— Ну, я не знаю… — заколебался он. — Мне не положено…
— Сегодня всем положено… Мы ведь тоже люди…
— Кто сегодня не выпьет? Мы тут в тайге. Чего боятся? — кидали мы свои убедительные доводы.
— Вечером приедет моя смена, а меня после выпитого всегда выдает краска. Я на это дело слабый, — начал прибедняться он, быстро забыв о своих вчерашних байках.
— Товарищ лейтенант, — не отступал я, — да кто сюда приедет в такой день?
— А вы луком заешьте, — посоветовал Шубкин.
— Вечером в дивизионе все офицеры будут пьяные, никто в эту тьму не поедет. Выспитесь до завтра, — добивал его Короленко.
— Ну, в общем, так, товарищ лейтенант, — вступил в дело сержант Линкевич, — пропустим по стаканчику, ничего не случится. В честь такого дня можно.
— А, черт с ним! — махнул рукой лейтенант и взял стакан.
Выпили. Хорошо закусили. Поболтали о какой-то ерунде.
— Разливай вторую, — не выдержал долгой паузы Линкевич.
— Не, вы, ребята, пейте, а мне хватит, — отказался лейтенант.
Мы больше не стали его уговаривать, видя, насколько он трусоват, и осушили свои стаканы. На столе остался только один наполненный стакан. Мы начали азартно поглощать еду. Зажаренный заяц, хоть и немного жестковатый, был очень вкусным. В голове почувствовалось опьянение.
Разговорились и всё рассказали лейтенанту: и о летних, и о нынешних наших самоволках в деревню… Он слушал, слушал, и вдруг выдохнул: «А, ладно…» Поднял свой стакан и выпил до дна.
За столом сидели до трех часов дня. Потом решили незаметно от лейтенанта потихоньку собираться в Ястребово, там ведь намечались танцы… Выходили из будки, договаривались шепотом, кто когда пойдет. Лейтенант, конечно, понял, что мы собираемся уходить. Он позвал сержанта и сказал, что командир дивизиона приказал ему никого никуда не отпускать. Они долго о чем-то говорили наедине, в конце концов был отпущен только один Короленко — на три часа и не в Ястребово, а в Ключи, в магазин. Дали ему денег, и он пошел. А мы, оставшиеся, с хмельными головами залегли в постели.
Через три часа лейтенант нас разбудил, потому что Короленко к этому времени не вернулся. Струсив, он собрался звонить комдиву о пропаже солдата. Мы уговаривали не делать этого, уверяя, что тот скоро придет. Но лейтенант снял трубку и позвонил в дивизион. Комдив, конечно же, как и положено, был в это время пьян, долго не мог понять, о чем идет речь, несколько раз заставлял лейтенанта всё заново повторить, в чем-то обвинял его, отчего тот выходил из себя, доказывая, что он тут ни при чем.
Через пятнадцать минут после этого разговора вернулся Короленко, сильно качаясь, но держась на ногах.
— Где ты был столько времени?! — набросился лейтенант.
— Ходил проверять петли на зайцев…
Лейтенант доложил об этом в дивизион. Комдив решил ехать к нам для разбирательства. А Короленко, как нарочно, в тепле развезло, и он отрубился. Мы вытащили его на мороз, били по щекам, растирали снегом. Он начал что-то бубнить несуразное, но на ногах не держался. Мы оттащили его на холодную кухню. Там он постепенно входил в чувство.
Мы все почистили зубы, чтобы отбить запах водки, выпили крепко заваренного чаю. Короленко наконец мог самостоятельно стоять на ногах. Когда нам позвонили, что комдив выехал, мы решили лечь в постель. Короленко, само собой, мгновенно захрапел.
Через час на вездеходе прибыл подполковник, командир дивизиона. Мы все встали. С горем пополам удалось разбудить Короленко. Сначала он не мог понять, зачем его поднимают, но вскоре очухался и даже сам оделся.
Комдив построил нас в шеренгу и, хоть сам был пьяненький, пристально всех осмотрел. Мы держались нормально, даже виновник переполоха. Около двух часов шло выяснение, куда уходил Короленко. Сержант сказал, что он сам отпустил его проверить петли на зайцев, но не доложил об этом лейтенанту. Комдив поверил, тем более что лейтенант подтвердил сказанное и назвал свой звонок в дивизион ошибочным. Короленко во время беседы с подполковником держался стойко, лишь немного покачиваясь и порой закрывая глаза. Но я сбоку поддерживал его за ремень.
Комдив привез с собой замену нашему лейтенанту — другого, но внешне более серьезного. Когда вездеход ушел, мы с облегчением завалились спать. Но я долго ворочался и не мог уснуть до трех часов ночи. То ли от крепкого чая, то ли от сокрушения, что не удалось в этот вечер вырваться в деревню на танцы, где была Галя…
Я успел спросить комдива о моей демобилизации. Он сказал, что я буду отпущен в конце ноября. Обещание капитана о моем отъезде в первой партии сразу после праздника не сбылось.
14.11.1969
Вчера был мой день рождения. Я никому об этом не сказал. Но у нас оставались две бутылки водки, и мы решили их распить. К счастью, соглядатая-офицера от нас забрали.
Мы вновь приготовили хороший обед, как в праздник 7-го, только без зайчатины. И лишь я один знал, что пью за свой день. Вечером все, кроме меня, ушли в Ключи. Я остался в нашей будке один и весь вечер писал стихи. В Ключи я идти не мог, потому что дал слово Гале. Ведь 12-го я уже был там. У нее. Но всё по порядку.
Мы отправились в Ключи после обеда вместе с Короленко. Стоял приличный мороз. Мне нужно было попасть на почту, чтобы отправить домой книги. Шли семь километров — по сугробам, лесом, болотом, потом полем. На почту попали перед самым закрытием, еле уговорили приемщицу принять бандероль. Потом долго бродили по деревне в поисках дома, где снимала комнату Галя. Спрашивали прохожих, но до самой темноты никто не мог подсказать. И все же, намерзшиеся, мы его нашли. Было совсем темно, когда я постучал в окно. Сначала вышел какой-то парень, я попросил позвать Галю. Вскоре вышла на порог и она. Первое, что я ощутил рядом с ней, — аромат духов, отчего мне вдруг стало даже теплее. Она засмеялась, увидев меня, и пригласила в дом. Короленко пошел к своей девушке.
Парень, которого я увидел, был сыном хозяев дома, а их самих в это время не было. Галя провела меня в свою комнату, включила торшер и принесла для меня пачку папирос. Мы с ней долго сидели друг против друга. Я рассказывал ей о нашей жизни в лесу, о пойманном зайце, о трусливом лейтенанте, о пьяном Короленко, ходившем за водкой в Ключи… Она была весела и шутила вместе со мной. Так мы просидели три часа. В любую минуту могли вернуться хозяева дома. Я понимал, что пора уходить.
Галя вышла на крыльцо проститься со мной, без шапки, лишь накинув на себя шубку с большим лисьим воротником. Я поднял этот воротник, крепко обнял ее и поцеловал в губы. Потом спросил: «Скажи, ты меня не любишь?» Она не ответила. Ветер растрепал по лицу ее распущенные волосы, она их не убирала и стояла молча с опущенными глазами.
— Я пойду, — выдохнула она.
Снова сжав ее в своих руках, я настойчиво заговорил:
— Ответь что-нибудь. Я не отпущу тебя, пока не скажешь… Я должен знать…
Она молчала.
— Галя?!
— Я не могу тебе сказать.
— Почему, Галя?
Я гладил ее волосы, отводил их с лица и целовал, целовал ее горячие щеки, глаза, губы…
— Потом, милый, не сейчас…
— Когда потом? У нас уже нет времени. Я пришел, чтобы услышать ответ…
Я крепче сжимал ее плечи, но она не отвечала.
— Давай так, я приду в другой раз, и ты мне всё прямо скажешь, — я попытался помочь ей.
— Сюда больше не приходи.
— А если приду?
— Я не выйду к тебе.
— Ну ладно, я приду в Ястребово, в субботу…
— В Ястребово приходи, а сюда не нужно.
— Я приду в эту субботу. И ты мне всё скажешь.
— Не знаю. Может быть…
— Я приду только чтобы услышать. Ну всё. Теперь иди.
Она немного постояла в нерешительности, словно и впрямь что-то хотела сказать, медленно повернулась и ушла в дом.
Возле клуба мы встретились с Короленко. При лунном свете, согреваясь быстрой ходьбой по своим в сугробах следам, путь назад мы преодолели без особых проблем.
16. 11.1969
Суббота. Вечером пришла машина с продуктами. После ее разгрузки я попросил шофера отъезжать от нас на тихой скорости. С Линкевичем мы ее догнали, залезли в кузов и легли на доски. Опасались, что офицер, сидевший в кабине, посмотрит в заднее окно и нас увидит. Но он ни разу не обернулся, и мы благополучно добрались до Ястребова. Там мы спрыгнули с машины и отправились в клуб. Вся деревенская молодежь была в сборе, а среди них — Галя.
Я был каким-то скованным, неразговорчивым. Мы с ней танцевали долго, но почти молча, словно предчувствуя что-то неизвестное. Наверное, и она догадывалась, что вот-вот закончится разлучный танец…
После танцев, хоть и было морозно на улице, мы все же решили пройтись. Она взяла меня за руку. Говорила о какой-то ерунде, о своей звезде, которую так и не показала… Гуляли до часу ночи, пока совсем не замерзли. Подошли к ее воротам, но они оказались запертыми изнутри. И ей нужно было, чтобы попасть в дом, заходить с обратной стороны.
Я понимал, что это, скорее всего, наш последний вечер. Дожидаться ее ответа на мой прошлый вопрос я больше не мог.
— Скажи что-нибудь на прощанье, — выдавил я. — Мы ведь скоро разлучимся. Может, навсегда…
— Я не знаю, что сказать…
— Что-нибудь… Ты обещала…
— Не заставляй меня, — посерьезнела она. — Я никому этого не говорила.
— Галя, я не могу вот так просто с тобой расстаться…
— Зачем тебе это? Ты скоро уедешь…
Я обнял ее. Она прижалась щекой к моим губам. Потом сняла варежку и стала нежно гладить меня по щеке. Я вновь спросил:
— Всё, что было между нами, у тебя было просто так?
— Что ты, нет конечно… — ответила она.
— Ты могла бы меня полюбить?
— Да.
После некоторого молчания я поцеловал ее в губы и снова спросил:
— За этот наш прошедший год ты хотя бы раз думала о любви между нами?
Она посмотрела на меня умоляюще.
— Милый, хватит об этом… Ну зачем? Не спрашивай больше ни о чем.
— Пойми же, мы, может, никогда уже не встретимся.
Немного помолчав, она сказала:
— Если так, тогда к чему все эти вопросы?..
— Не знаю, как ты, но я не смогу тебя забыть…
Я видел, как она замерзла. Ей нужно было идти домой.
— Ну, прощай, моя дорогая Галка, — сказал я, напоследок отчаянно сильно обняв ее.
И мы расстались.
Всю обратную дорогу я думал только о ней и о том, что между нами всё кончилось. Стояла тихая морозная ночь. Я шел один по ночному снегу, и впереди расстилалась белая безжизненная равнина, а надо мной висело сибирское небо, усыпанное огромными звездами. Было ужасно грустно и тягостно на душе.
Прежде я не мог представить, как же это будет, когда мы в последний раз посмотрим в глаза друг другу… Но смогу ли я выдержать, чтобы еще раз не увидеть ее? Пусть, пусть она запретила, но я должен попасть в Ключи, чтобы хоть еще на мгновенье сжать ее руку перед нашей окончательной разлукой…
21.11.1969
19-го переписывал стихи для Гали, которые хочу оставить ей на память. Вдруг зазвонил телефон, и нам передали, что уже выехал тягач, чтобы забрать нас в баню перед Днем артиллерии. Мы ведь как-никак артиллеристы…
В дивизионе мы с Шубкиным нашли в котельной старые лыжи и бросили их в кузов тягача. Вечером нас вернули назад. Ночью плохо спалось, сначала долго не мог заснуть, ворочался, думал о Гале, потом часто просыпался, дрожал от холода под двумя одеялами. Вставал растапливать печь.
Сегодня поднялся в 10 часов, вышел на мороз, сделал зарядку, облился по пояс холодной водой и обтер тело снегом, как я это делаю почти каждое утро. Завтрак заранее мы не приготовили, поэтому съели по банке рыбных консервов и сала. Потом я смастерил на лыжи крепления, лыжные палки и весь день катался по глубокому рыхлому снегу. К вечеру проложил лыжню до Ключей, вернулся уставший, но довольный. И вот снова сижу под тусклым светом свечи и пишу эти строки.
У меня созрел план. Если всё сложится нормально, я его постараюсь исполнить завтра.
23.11.1969
Впервые в жизни я ощутил дуновение смерти. Она догоняла меня, шла по пятам, была совсем рядом и когда до нашей избушки оставалось всего два километра, она уже тепло дышала мне в лицо…
Несколько дней я переписывал свои стихи специально для Гали. Перед возвращением домой я хотел сделать ей подарок, чтобы она всегда помнила о наших встречах и наших чувствах друг к другу. У меня не было более дорогого подарка, чем мои стихи. Галя была здесь для меня самым нежным, самым добрым и самым любимым человеком.
Мне стало известно, что в субботу, 22-го, десятиклассники проводят вечером «голубой огонек». Вот там-то я и собирался передать Гале сверток со стихами.
В тот день ребята меня отговаривали:
— Не стоит идти, сильный мороз, тьма, снегу навалило, назад не доберешься.
— Ничего, дело привычное, — ободрял я не столько их, сколько себя.
— Смотри, не вздумай отдыхать в дороге, замерзнешь. Тут лес ночью — не шутка, — предупреждали они. — Зря ты идешь один…
Я не хотел никого слушать, ведь не мог же я, испугавшись мороза, не исполнить своего последнего желания перед расставанием с Галей навсегда. Переоделся в теплое обмундирование и вышел из нашей избушки.
Тихий морозный вечер был похож на глубокую ночь. Яркая луна, словно желтое блюдце, медленно катилась по черным облакам и, казалось мне, готова была стать моим попутчиком.
Я встал на лыжи, затянул крепления на сапогах и отправился в путь.
По рыхлому снегу, наваленному за вчерашний день, лыжи скользили плохо. Сильно толкаясь палками, я шел вперед по знакомому мне маршруту. Проложенная прежде лыжня едва различалась. Я старался идти как можно быстрее, чтобы не замерзать до конца пути. Сначала мне и вправду было жарко, но в какой-то момент я почувствовал, что ноги начали уставать, и, самое странное, стали тяжелеть веки. Вспотевшее лицо покрылось инеем, брови и ресницы заледенели, отчего мне часто пришлось тереть глаза.
Вот я прошел через замерзшее болото, которое бывшим летом отталкивало нас топкими трясинами и жуткими криками каких-то ночных птиц. Вот миновал припорошенный снегом незамерзающий ручей с высокими крутыми берегами, куда мы несколько раз ходили за водой. Я часто поднимал голову и смотрел на небо, где над острыми верхушками елей и кедров плыла моя желтая спутница, придавая мне силы и успокаивая меня, отчего казалось, что я на самом деле в этом лесу не один.
И все же в деревню я пришел совершенно уставший. Спрятал лыжи в снегу. В сырой от пота одежде и холодных сапогах я начал мерзнуть.
Школа находилась в центре деревни. На втором этаже в окнах горел свет, и оттуда доносилась танцевальная музыка. Я обошел школу кругом, но все двери оказались заперты. Мороз одолевал меня, и мне хотелось во что бы то ни стало проникнуть внутрь школы, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Постучал в торцовую дверь. Никто не отозвался. Тогда я стал стучать сильней. Наконец послышался девичий голос:
— Кто там?
— Откройте, пожалуйста, — сказал я, — мне очень нужно.
— Зачем?
— Я должен передать одну вещь.
Дверь открылась. Я увидел девушку в коротком белом платье с распущенными волосами. Она удивленно и вопросительно смотрела на меня и не могла понять, что нужно солдату здесь в такой мороз и в такое позднее время.
— Передайте, пожалуйста, вот это Гале, — сказал я, протягивая ей сверток.
— Какой Гале?
Я назвал фамилию.
— Может быть, ее позвать? — спросила девушка.
— Нет, нет, не надо, передайте и всё.
— А что ей сказать? От кого это?
— Ничего не говорите. Она сама всё поймет.
— Ладно, хорошо, — согласилась девушка и закрыла передо мной дверь.
Я отошел от школы к ограде и, сам не знаю почему, остановился. Уходить не хотелось. Я не собирался встречаться с Галей и был уверен, что, получив сверток, она поймет от кого это, но не выйдет ко мне. Однако я ошибся. Наверное, боясь, что я быстро уйду, она выбежала на улицу, как была, в легком платье, огляделась по сторонам и, увидев меня, в туфлях на высоком каблуке по снегу подошла ко мне.
— Зачем ты вышла? — первое, что сказал я.
— Здравствуй, — она протянула руку.
Я взял ее теплую руку, еле сдерживая себя, чтобы не обнять ее. Она была прекрасна.
— Ты откуда пришел?
— Откуда я всегда приходил.
Она опустила глаза и, покачав головой, улыбнулась.
— Ты когда уезжаешь? — Она казалась взволнованной.
— Не знаю… Зачем ты вышла? Замерзнешь…
— А что здесь? — она указала на сверток.
— Потом посмотришь…
— Ладно… Спасибо…
— Пожалуйста…
— Ну, когда ты уезжаешь?
— Не знаю, Галя, не говорят. Наверное, скоро.
Из школы вышла пожилая женщина, видимо, учительница, и позвала ее.
Галя хотела что-то еще сказать. Чувствовалось, что она замерзла.
— До свидания, — наконец выдавила она и снова протянула мне руку.
— Прощай.
Я сжал ее ладонь.
— Какая теплая рука… — сказал я.
Галя грустно посмотрела мне в глаза, повернулась и быстро пошла к освещенному подъезду школы.
Я вытащил из-под снега лыжи. Пальцы совсем окоченели. Отогрел их немного в карманах, вставил ноги в смерзшиеся крепления и двинулся назад, к себе. Ночь была по-прежнему тихой и светлой, но мороз я уже чувствовал всем телом. Особенно мерзли руки и лицо.
Я сразу рванул что было сил, чтобы разогреться. Через несколько минут руки отошли, но пальцы на ногах я перестал ощущать. Лицо смерзлось и заледенело. Я чувствовал, как силы иссякали, и быстро двигаться на лыжах не получалось.
Пройдя с километр, я уже еле-еле переставлял ноги, глаза слиплись и начало клонить в сон. Но я шел вперед по рыхлому снегу, говоря себе: «Ничего, все будет нормально, главное, не останавливаться». Однако силы покидали меня каждую минуту, ноги становились ватными и не хотели слушаться. Во рту пересохло. Стоило мне остановиться и, облокотившись на палки, опустить голову, как в глазах становилось темно и приятный сон охватывал сознание. Но мысленно я еще владел собой, я понимал, что останавливаться нельзя, что нужно двигаться, иначе — уснешь и замерзнешь. «Только не спать, только не спать, не останавливаться и не спать», — внушал я себе всю дорогу.
Но не останавливаться я не мог. Нужно было растереть лицо снегом, чтобы отогнать сон, разодрать смерзшиеся ресницы и хоть чуть-чуть передохнуть. Очень хотелось пить, и я останавливался, чтобы положить в рот горсть снега. Но снег жажды не утолял, он лишь ее разжигал.
Вот я достиг болота. Кое-как проталкиваясь между высоких кочек, я не шел на лыжах, а тащил их вперед. Так я добрался до ручья. Вниз съехал благополучно, но, взбираясь наверх, всем телом уперся на одну из палок, она соскользнула, и я, не устояв, полетел назад. Упал возле самой воды. Снег на склоне был глубокий и обвалился вместе со мной. Одна лыжа слетела с ноги. Я с трудом встал, забросил соскочившую лыжу на берег и, упираясь палками и проваливаясь выше колена свободной ногой в снег, опять стал подниматься по крутому склону. Но уже на самом верху, когда оставалось сделать два шага, я оступился, нога вместе с обвалившимся снегом соскользнула, и я снова рухнул в сугроб.
Подниматься уже не хотелось. Мной овладели беспомощные чувства злобы и бессилия. Сделалось даже страшно от сознания того, что я здесь, в лесу, ночью — один, и никто мне ничем не поможет. Но я заставил себя подняться на ноги. Непослушными пальцами отстегнул вторую лыжу, забросил ее на берег и, собравшись с последними силами, карабкаясь голыми руками по снегу, с большим трудом вылез наверх. Только теперь, когда мороз казался невыносимым, когда хотелось плюнуть на всё, лечь на снег и уснуть, я до конца понял то правило, что зимой, и тем более ночью, нельзя ходить в тайгу одному.
Я чувствовал, что всерьез замерзаю. Пальцы на руках бездействовали, застегнуть лыжные крепления я уже не мог, веки отяжелели и смерзлись, усы покрылись коркой льда. Желая пить, я то и дело облизывал губы. На теле, казалось, не было ни одного теплого места. Я засунул руки в карманы бушлата, воткнул ноги в ремни лыж и тронулся дальше.
«Нужно дойти… дойти… Я не должен тут замерзнуть…» — шептал я. И тут мне представилась наша теплая печка-буржуйка, потом, словно в прекрасном сне, перед глазами всплыла керосиновая лампа… Я тряхнул головой, счастливые видения исчезли. Передо мной лежала серая равнина мертвого, пустынного поля, и только одинокая луна, как тусклая свечка, мерцала над ним. «Значит, болото и лес уже позади» — дошло до меня. Оставалось два километра пути, которые казались мне непреодолимыми, потому что сил у меня уже не оставалось. Впервые в жизни я ощутил дуновение смерти…
Я не знаю, как преодолел эти последние километры, откуда взялась во мне энергия, спасшая мне жизнь, и меня не нашли утром, уснувшего последним сном. Каким-то чудом я очнулся в овраге за двести метров до нашей избушки. Очнулся от того, что сильно ударился головой о дерево, когда съезжал на дно оврага. Какая-то внутренняя интуиция заставила меня, находившегося в бессознательной полудремоте, двигаться по собственной лыжне и привела к этому оврагу. Идя вниз, лыжня сворачивала в сторону от стоявшего впереди дерева, но я этого уже не видел и просто врезался в него. Тут я и пришел в себя, словно проснулся. Вижу — лежу на снегу. Болит лоб. Ни рук, ни ног, ни холода я уже не ощущал, все чувства притупились. Полежал немного, потом вдруг как-то сразу всё вспомнил — зачем и куда ходил и что нужно обязательно дойти до тепла. Приподнялся. Ноги тряслись, как только что пришитые. Холодными кулаками протер глаза: лыж рядом не было, и, проваливаясь по колено в снег, стал медленно подниматься наверх оврага.
Качаясь, точно пьяный, дошел до нашей избушки, два раза ударил в дверь и, не дожидаясь, когда мне откроют, уснул прямо на пороге. Как меня внесли в избу, как раздели и уложили в постель — я уже не слышал. Потом ребята мне рассказали, что я сквозь сон упорно повторял: «Не спать, не спать, только не спать…»
Поздним утром, закутанный в солдатские бушлаты, проснулся я от стука в дверь. Пришла машина с продуктами.
Некоторые стихи из тетради, подаренной Гале:
* * *
Ты во мне поселилась, милая...
Как теперь без тебя прожить?
Я прошу: ну попробуй, смилуйся,
слово ласковое скажи.
Ты пугаешься: «Нет, не спрашивай.
Ах, зачем это все, зачем?
Позабудутся дни вчерашние,
мы расстанемся насовсем...
Не бывает в разлуке верности.
А слова... Что тебе от них?..»
Я смотрю, и никак не верится,
чтоб вот так мне любить других.
Я смотрю, и ничуть не жалко мне
для тебя самых сладких слов.
Ну хотя бы возьми, пожалуйста,
ты на память мою любовь...
* * *
Мне на голову звезды падают;
для чего — не пойму и сам...
Я бреду — и ничуть не радует
эта ночь, что светила нам.
И взираю на всё печально я,
и развеять печаль невмочь.
Всё последнее, всё прощальное:
эти звезды и эта ночь.
Этот снег, голубыми бликами
леденящий тепло очей,
и вот эта дорога длинная,
что меня выводила к ней...
Всё прощальное, всё последнее:
и сибирская эта луна,
и равнина ночная, бледная,
и тайга, что как тьма черна.
И ее поцелуи влажные,
и мои — столько раз подряд,
и последнее рук пожатие,
и последний прощальный взгляд.
Написать ей, наверно, надо бы,
охладев ко вчерашним дням...
А на голову звезды падают...
Отчего — не пойму и сам.
ПРОЩАНИЕ
Знаю: нужно сказать «до свидания»,
но никак не хватает голоса...
О, как хочется мне на прощание
целовать твои руки, волосы,
эти губы до блеска алые,
эти плечи твои любимые
и вот эти глаза лукавые,
в самом сердце моем хранимые.
В жизни так очень часто водится:
остается любовь одна.
Мы уходим, верней, расходимся,
только здесь ни при чем она.
Может, что-то тебе и вспомнится,
если встретишься с ней в пути.
Ты ее обогрей, бездомную,
а меня за нее прости.
Но на счастье в дорогу дальнюю
ты мне что-нибудь пожелай.
Я уже не скажу «до свидания».
Знаю: лучше сказать «прощай».
25.11.1969
Узнал, что 22-го из дивизиона уехала еще одна партия дембелей. Почти все — москвичи. Я в нее не попал. Ужасно обидно. Они уже дома, а я все еще здесь. А ведь мне нужно успеть поступить на подготовительные курсы в МГУ. Если отпустят поздно, я могу не успеть.
Здесь я ни на что не нужен, валяю тут дурака, ни черта полезного не делаю, сплю, немного читаю, играю в шахматы. Время проходит попусту. Сидим тут, как сурки, оторванные от жизни. Два с половиной года отдал службе, почти все школьные знания позабыл, надо всё заново восстанавливать. А что приобрел, кроме издерганных нервов и измученной души?.. Сам удивляюсь, как я всё это выдержал? Но все-таки выдержал. Правда, написал много стихов… Но я писал бы их где угодно.
Я не жалею о службе. Она укрепила мой характер, и физически я стал сильнее. Но я жалею вот об этих днях, когда мне давно пора быть дома, а меня всё не отпускают, всё чего-то тянут с моим увольнением. А ведь я здесь, в этом лесу, совершенно не нужен.
Еще один поздний вечер. Шубкин и Короленко играют в шахматы, из «Спидолы» доносится эстрадная музыка, на столе горит керосиновая «настольная» лампа. В маленькое окошко нашей «избушки» светит луна. Грустно. Писать здесь стихи больше нет никакого желания. Чувство изоляции и тупой несвободы давит на душу и на сознание. Очень тягостно.
28.11.1969
Вчера была пурга. Ветер сбивал с ног. Весь день стояла тьма от метели. Но мы пилили деревья и заготавливали дрова. Чистая вода кончилась. На ручей ходить далеко, и снег уже глубокий. Варили еду в плохой воде, которую берем из пруда. Она мутная, и глядя на нее, у меня пропадает желание есть. И без того испорчен желудок, а тут еще эта вода… Хоть мы и растапливаем снег, но от него воды получается мало.
Сегодня тоже пилили деревья и рубили дрова. Устали. Настроение паршивое. Уже ничего не хочется делать, всё страшно надоело. В этом месяце, наверное, не будет новой дембельской партии. Теперь надежда на декабрь. А ведь меня ждали дома в ноябре. На душе муторно. Всё мне здесь осточертело. Даже в самоволку не тянет. Завтра суббота, но я никуда не пойду. Буду просто спать.
4.12.1969
Господи, вот она, потрясающая, невероятная новость! В полк пришла телефонограмма из штаба армии, в которой сказано, что до 7-го декабря все старослужащие должны быть уволены. Знакомый телефонист меня разбудил ночью и прокричал об этом в трубку. Само собой, спать я уже не мог.
Сегодня из дивизиона ушла еще одна партия дембелей в пять человек. А 6-го будут отправлены все остальные! Значит, и я! От радости можно сойти с ума. Слоняюсь вокруг нашей будки и места себе не нахожу.
Господи, неужели дождался?! Кончилась моя служба! Кончилась моя Сибирь! Завтра за мной приедет машина — и всё! Даже не знаю, как мне прожить здесь эти последние 24 часа. Хочется залезть на дерево и кричать что есть мочи.
Дожить! Дожить до завтра!..
20.12.1969
Итак, закончилась моя служба. Неделю назад я вернулся домой, в свой родной подмосковный город. Все эти дни я наслаждался свободой, домашним теплом, общением с друзьями и старался не думать, не вспоминать о недавних своих армейских тяготах и сердечных волнениях в Красноярском крае. Мне казалось, что все это позади, где-то далеко-далеко, что все это ушло в прошлое, рассеялось, как тягостный сон.
Но сегодня вдруг получил авиаписьмо. Судьба догоняла меня посланием из той самой деревни, где жила Галя. Это было письмо от нее, и оно говорило, что там, в Сибири, тоже продолжается жизнь, что все это было не сном, что там осталась та, кто помнит и думает обо мне.
Ее письмо было исполнено большой грусти и даже тоски. Она хотела не просто напомнить мне о себе, не просто укорить меня за то, что я отказался встретиться с ней перед демобилизацией, нет, она впервые сказала мне о своей любви.
Оказывается, узнав о том, что за несколько дней до увольнения в запас меня переправили в часть из той «избушки», где мы охраняли стройку, Галя тоже перебралась жить в свою деревню, в Ястребово, к родителям. Она надеялась, что перед отъездом домой я с ней обязательно увижусь. Но этого не случилось. И вот что я прочитал в ее письме:
«…Сейчас я, конечно, понимаю — мои ожидания, мои переживания были бессмысленными. Что дала бы нам эта встреча? И что сказали бы мы друг другу? Ведь мы оба должны были понимать неизбежность нашего разрыва навсегда. Но ничего с собой поделать я не могла. Ты знаешь, я веду дневник. И я хочу поведать тебе, что было мной записано в нем после того вечера, когда я тебя ждала и ты не пришел. Пусть это останется не только со мной, но и с тобой. Вот эта запись:
«Я ждала. Я мучительно ждала сегодняшнего вечера. Я слышала, что завтра солдаты уезжают домой и среди них уезжает он. Он уезжает…
Конечно, сегодня они должны в последний раз прийти в увольнение. Я с утра готовилась к этому вечеру, я все думала: ЧТО я ему скажу, КАКИЕ слова? Да что слова, я скажу, КАК я его люблю, люблю!
О, я почему-то раньше не придавала значения нашей предстоящей разлуке и считала, что она будет совсем обычной, что мы расстанемся просто так и скоро забудем друг друга, как будто между нами ничего и не было. А действительно, ЧТО было?
Было, было! Он любил меня. «Но какая любовь может быть у солдата? — размышляла я. — Это лишь пустые слова, им, этим словам, нельзя верить». Но что же теперь? Что со мной случилось?
Теперь, когда он должен уехать, я поняла, как была глупа; я не могу с ним расстаться, я люблю его — вот что случилось теперь! Но когда это случилось? Не могла же я полюбить так вдруг, сегодня утром... Ну, конечно, я любила его давно, гораздо раньше — когда мы встречались, хотя и не могла или боялась признаться в этом себе, или, вернее, я еще сама не понимала своего чувства, его возрастающей глубины, того чувства, которое молчало, когда мы были рядом, и казалось незаметным, но которое охватило и сдавило мое сердце, стало мучить меня и томить непонятным ожиданием и стремлением к близости с тем, с кем я должна теперь расстаться, может быть, навсегда. «Но нет, — решила я, — сегодня я ему всё скажу, всё, всё, всё».
Чем ближе время подходило к восьми часам вечера, тем сильнее охватывало меня волнение. Я боялась увидеть его. Казалось, за всю мою жизнь я ничего так яростно не желала, как этой последней встречи, и вместе с тем страшно боялась, ведь до сих пор я была с ним слишком холодна, да, непростительно холодна, жестоко холодна, я мучила его, заигрывала с ним, дразнила и мучила. А он-то, он все равно приходил, за десять километров приходил ко мне. Зачем? Чтобы два часа побыть со мной наедине. И я принимала это как должное, как обычное. «Ведь многие же солдаты приходят к девчонкам, ну вот и ко мне приходит», — говорила я себе. И он приходил, да нет — прибегал, уставший, худой, взлохмаченный, в потертой гимнастерке и нежно сжимал мои руки в своих шершавых, мозолистых ладонях. Он гладил мне волосы, гладил и целовал, целовал долго и страстно мои глаза, мои губы, руки… Потом я спешила домой, а его просила уйти и приходить только в увольнение, а не в самоволку. Но в увольнение он почему-то не приходил, а вот в самоволке был чуть ли не через день, вернее, через вечер. Я вела себя как легкомысленная девчонка, да я и есть девчонка!
«Ну что же это со мной происходит! До чего же медленно течет время!..» — ужасно нервничала я и, мечась по дому, ни минуты не могла посидеть спокойно, из рук все валилось, и я даже ничего не могла есть. Когда оставалось два часа до их увольнения, мне казалось, что я умру за эти два часа.
За окном уже было темно, в трубе завывал ветер, у окна раскачивались деревья, а я стояла перед окном и смотрела на дорогу, едва освещенную фонарями.
«А вдруг их не отпустят в такой мороз?» — думала я и тут же отгоняла эти мысли. «Они выйдут в половине восьмого и подойдут, наверное, к клубу. Хотя зачем к клубу, ведь сегодня не воскресенье и нет танцев. Так куда же они пойдут?..»
Теперь я уже не отходила от окна. Часы наконец показывали половину восьмого. Я оделась потеплее и вышла на улицу. Колючий ветер ударил мне в лицо. Я спрятала нос в воротник и пошла по дороге к клубу. Фонари слабо освещали дорогу, и вдали ничего не было видно. Я прошла мимо клуба, затем повернула обратно к дому. Ветер пронизывал насквозь, у меня начали замерзать ноги. Но я сама хотела встретить его, встретить и броситься ему на шею, моему любимому, единственному.
Я снова медленно пошла по дороге, опять приблизилась к клубу, немного постояла, и вдруг… Да, я заметила в далеком свете фонарей темные силуэты, они раскачивались, приближались, шли, нет, как будто плыли, плыли мне навстречу.
Сердце мое лихорадочно заколотилось, так заколотилось, словно я шла на смерть. Но я бросилась бежать, да, я побежала к ним, и я уже не думала ни о чем. Может быть, это некрасиво выглядело со стороны, мне в эти минуты было на все наплевать, мне нужен был он, только он, один на всем свете. Я задыхалась, кровь ударила в лицо, наверное, я вся раскраснелась, казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди.
Наконец до них оставалось всего несколько шагов. Я остановилась и никак, ну никак не могла отдышаться, я дрожала всем телом, я искала глазами ЕГО. Их было немного, человек пять. Вот они уже совсем рядом, все мне хорошо знакомы, они часто приходили к нам на танцы вместе с ним, все улыбаются… Но где же, где же, Господи!..
— А, Галя, это ты, а мы гадаем, кто это бежит нам навстречу? Ну, здравствуй! Вот уезжаем завтра.
— Здравствуйте, — сказала я, а у самой спина похолодела.
— Ты, должно быть, своего ждешь? — спросил один из них.
— Я…
— А он не захотел идти…
Ноги у меня ослабли и сердце так сжалось, что, казалось, я сейчас упаду.
— Как? — отчаянно спросила я и, наверное, в эту минуту вся побледнела.
— Не знаю, — говорил все тот же солдат, — сначала он очень обрадовался, что нас отпустят в увольнение, но потом вдруг отчего-то раздумал, сказал, что нужно еще «на дембель» шинель подрезать, мундир подшить, ну, в общем, отказался идти.
— А может, он еще придет? — чуть не плача, глухим голосом через силу выдавила я.
— Нет, теперь уже вряд ли отпустят, — ответил он. — Ну ладно, мы пойдем... Хотя… — добавил он на ходу. — Вдруг вырвется, ты подожди.
И они заспешили в село. Там у них были девушки, с которыми они долго дружили и теперь должны проститься и в последний раз побыть наедине.
А я… я осталась на дороге одна. Я не могла идти, я никуда не хотела идти. «Этого не может быть! — еще твердила я сама себе. — Что же это, как же это! Ну почему, почему?!» Я была не в силах сдержать своих слез. Они текли, холодные, горькие, текли и застывали у меня на подбородке, скатывались за воротник, неприятные, противные. Я стирала их с лица шершавой варежкой, а они все текли и текли. Мне хотелось сейчас упасть в снег и уже не вставать, и плакать, плакать, пока не замерзну. И я заревела в голос, как ребенок, которого грубо и несправедливо обидели, которого ни за что сильно избили. Я ревела от бессилия что-нибудь исправить, чем-либо помочь своему горю. Никогда еще в жизни мне не было так горько, так страшно, как в этот вечер, который я ждала с самого утра.
Я шла и ревела, и боялась увидеть возле своего дома ту скамейку, где мы с ним просиживали до поздней ночи, ту соседскую ограду, из-за которой он доставал мне цветы, и наш забор, у которого он, прислонившись плечом, поджидал, когда я выйду из дома. Я шла и ревела, оттого что он так жестоко обошелся со мной. «Зачем, зачем так жестоко!» — бубнила я. Мне было обидно, очень обидно, что он так и не сумел за все время, ничуть не сумел меня понять…»
Это письмо я сохраню на всю жизнь как одно из самых дорогих сокровищ моего сердца.