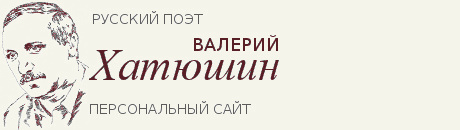Серый осенний день угрюмо погружался в вечерний сумрак. Хоть и редкие, но тяжелые капли дождя, гонимые порывистым ветром, с шумом падали на карниз, забивая еле слышимый, торопливо-ровный стук часов, стоящих на книжном шкафу. Неожиданно за стеной у соседей громко заработал телевизор. Зычно кричащие голоса, заглушая друг друга, слились в сплошной гудящий гвалт, как будто каждый из этих голосов силился исторгнуть в эфир наибольшее количество слов.
Вадим устало опустился на диван и сомкнул глаза. Нервы и все чувства противились этому истерическому гвалту. Через минуту он резко встал и со всей силы начал стучать кулаком в стену. Телевизорный ор мгновенно оборвался, на что Вадим почти не надеялся. В возникшей тишине слух вновь уловил торопливый стук часов и неровную дробь капель, падающих на карниз.
«Наверное, жена опять придет поздно, — подумалось ему. — Тем лучше».
Вечерний сумрак быстро сгустился, наполнив комнату холодной, неприятной тьмой. Вадим включил настольную лампу. На письменном столе лежал Новый Завет. Он постоянно перечитывал его, когда всё стихало в доме и за окном, снова и снова возвращаясь к потрясающему сердце описанию земной жизни Христа. Заложенная страница начиналась со слов: «…если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня; О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам…»
Прочитав эти строки, он встал из-за стола и подошел к окну. Перед его глазами простирался вечерний город, залитый искусственным светом. Взгляд его привлекла темно-синяя полоса холодного осеннего неба, застывшая на закате. Эта зыбкая небесная полоса над сияющим желтыми огнями городом, казалось ему, таила в себе единственную для его души надежду на какой-то просвет в оставшейся жизни.
Он услышал, как хлопнула входная дверь его квартиры. Посмотрел на часы. Они показывали половину одиннадцатого. Выйти из своей комнаты к жене он не посчитал нужным и продолжал стоять у окна, глядя с двенадцатого этажа на вечернюю Москву.
По звукам в прихожей он ясно различал, как она сняла плащ и туфли, как, почти бесшумно шурша по паркету, прошла в свою комнату, затем на кухню. «Сейчас она войдет ко мне и опять начнет выяснять отношения», — точно знал он. Ему не хотелось с ней разговаривать, задавать ненужные вопросы, слышать ее бессвязные оправдания о том, где она была до этого времени. Ему было бы даже лучше, если бы она пришла еще позже, когда бы он спал.
Раздался короткий стук в дверь, и она вошла, успевшая переодеться в халат. Он продолжал стоять у окна, не обернувшись.
— Выйди на кухню, — громко сказала она и зашелестела по паркету мягкими тапками.
Он медленно, неохотно повернулся. На немолодом, осунувшемся лице не отражалось никаких чувств. Пройдя на кухню, он сел в кресло и посмотрел на нее грустными, равнодушными глазами. Она еще не смыла с лица макияж, и от ее темных, коротко стриженных волос исходил сладкий запах духов, смешанный с запахом сигаретного дыма и вина. В тридцать семь лет грим уже не скрывал ее морщин и несвежести кожи на лице.
На электроплите засвистел чайник. Она налила кипяток себе в чашку, добавила утренней заварки.
— Будешь чай? — взглянула она на него.
— Нет, не хочу, — опустив глаза, ответил он.
Ей нужно было с чего-то начать выяснение отношений. Отпив глоток, она задала случайный вопрос:
— Что сегодня делал?
— Тебе это надо знать?
— А что, я уже и знать не могу?
— Я же не спрашиваю, чем ты занималась до половины одиннадцатого вечера.
Она сделала еще один глоток и поставила чашку.
— Ты не спрашиваешь, потому что тебе на меня плевать.
Он поднял на нее глаза.
— А тебе?
— Что мне?
— Тебе разве на меня не плевать?
— Пока еще нет, мой милый. Но всё идет, наверное, к тому. Мы ведь с тобой знаем, что я тебя больше не интересую как женщина и как жена. Так что же мне делать остается?
Он бросил на нее жесткий взгляд.
— А что тебе остается?
Она отвернулась, стерла салфеткой помаду с губ.
— Да так, ничего особенного. Надо же мне с кем-то общаться. Из тебя за весь день слова не вытянешь. Сидишь в своей комнате, как сыч, над книгами. Ты женился-то на мне для чего?
— Прекрати паясничать. Тебе прекрасно известно, что я любил тебя и хотел, чтобы у нас были дети. Но ты всегда находила причины отказаться от этой тяготы. — Он встал с кресла и на выходе из кухни добавил: — Ты живешь ради развлечений. Вот и живи. А меня оставь в покое.
Вернувшись в свою комнату, он погасил свет, сел на диван и закрыл лицо руками. Минут пять сидел неподвижно, слыша звон посуды на кухне и шум воды в ванной. Затем из прихожей вновь прозвучал ее голос:
— Ну зачем ты всё перевираешь, Вадим? — Она в первый раз за несколько дней назвала его по имени. — Ты же знаешь, что у меня был неудачный аборт, и я не могу иметь детей. Ты за это меня ненавидишь, да? Но это же подло, подло! — Ее голос сорвался на крик.
«Тот злосчастный аборт был у тебя третий по счету», — сам себе ответил он. — Кто тебя заставлял его делать?»
— Ты занят своей жизнью, в которой мне нет места. Ты совсем от меня отдалился. Мы стали чужие друг другу! — надрывно бросала обвинения жена.
«Нет, Марина, — мысленно отвечал он. — Ты никогда не интересовалась моей жизнью, ни прошлой, ни настоящей. Только твои удовольствия были превыше всего для тебя».
Она громко хлопнула дверью в свою комнату. Несколько минут до его слуха доносились ее сдавленные рыдания, потом всё стихло.
Он опять приблизился к окну. Ночных огней в домах стало меньше, город погружался в сон. И синяя полоса неба, недавно мерцавшая на закате, тоже исчезла во тьме, не оставив ни малейшей надежды на какой-то просвет в его жизни.
Подойдя к письменному столу, он вновь присел и опустил взгляд на строки Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас».
Утром он проснулся от грохота железных дверей соседей по подъезду. В нижней квартире завывала дебильная музыка. «Дегенераты…» — это слово как-то само собой отразилось в сознании.
Не вставая, он дожидался, когда жена уйдет на работу. На этот раз она долго стучала каблуками по паркету, то и дело переходя из своей комнаты на кухню и обратно. Наконец, громко хлопнув входной дверью, — ушла.
Он не спеша поднялся с дивана, сдвинул его, облачился в халат, сделал, как обычно, небольшую зарядку, побрился и вышел на кухню. Небо за окном оказалось безоблачным, в стеклах соседних домов ослепительно блестело солнце.
Жена уже более года как перестала готовить ему завтрак. Вадим сварил кофе, достал из холодильника ветчину и сделал бутерброд. «Хоть и женатый, а вернулся к холостяцкой жизни, — мелькнула грустная мысль. — Ладно, переживем и это».
В его комнате заверещал мобильный телефон. С чашкой кофе он, не торопясь, вернулся к себе и взял лежащую на письменном столе трубку. Звонил старый товарищ по институту, где Вадим когда-то учился.
— Да, Алексей, приветствую.
— Вадим, надо бы повидаться, — прозвучал в трубке низкий голос.
— Да хоть прямо сейчас. Что-то случилось?
— Пока еще нет. Но может случиться. Неважно себя чувствую. Подъезжай ко мне.
— Хорошо. Через час буду.
Присел за стол, допивая кофе. Взгляд опустился на раскрытую страницу Евангелия. Заново ее перечитал. Затем, облокотившись, закрыл ладонью глаза и минуты две сидел неподвижно. После чего быстро поднялся, оделся и вышел из дому.
Вадим Николаевич в свои сорок семь лет нигде не работал. Был он филолог по образованию, долгое время преподавал в средней школе, но как-то вдруг сразу, два года назад, лишился родителей, живших в Подмосковье, — сначала матери, а через год и отца. От них досталась ему по наследству двухкомнатная квартира, которую он продал, а из школы уволился. Денег от проданной квартиры, если их не транжирить попусту, могло хватить надолго.
Он спустился в метро. На платформе, дожидаясь поезда, увидел двигающегося в коляске инвалида без ног. Когда тот, толкая руками колеса коляски, приблизился, Вадим обратил внимание на его крупные, совершенно бесцветные и ничего не выражавшие глаза, которые, как ему показалось, были устремлены за пределы окружающих стен и словно жили сами по себе. Что-то неуловимо знакомое отразилось на темно-сером лице человека в коляске. Вадим достал из нагрудного кармана пиджака десятку, протянул ее инвалиду. Тот с равнодушным лицом, даже не повернув головы, взял деньги и молча проехал мимо. Вадим мысленно усмехнулся странному поведению этого человека. Но потом, когда вошел в поезд и сел в самый угол вагона, понял, что инвалид был абсолютно прав: не должен он никого благодарить за подаяние. Оно в гораздо большей степени нужно не ему, несчастному, наказанному жизнью, а им, дающим, здоровым и сильным, за то, что Бог миловал их от такой беды. «Инвалиды эти напоминают нам, — подумал он, — что есть на земле истинное горе, помимо всех наших мелких неурядиц и огорчений, которым мы придаем зачем-то огромное значение…»
«Помогите инвалиду», — сквозь шум поезда услышал он негромкий дрожащий голос. По проходу вагона медленно передвигалась та самая коляска с человеком без ног, одетым в камуфляжную куртку. Кое-кто ему протягивал деньги, и он принимал их, ничего не говоря, лишь кивнув головой. Когда коляска добралась до конца вагона, где сидел Вадим, инвалид развернул ее, и на какое-то мгновение их взгляды пересеклись. Перед Вадимом вновь мелькнули отсутствующие бесцветные глаза, устремленные куда-то вовне. Инвалид уже надавил на колеса, чтобы отъехать к выходу, когда Вадим дотронулся до его плеча. Тот застыл на месте и лишь слегка отвел голову в его сторону.
— Повернись, — негромко сказал Вадим.
Инвалид развернул к нему свое тело. Его крупные глаза оживились, в них появился осмысленный свет.
— Ты меня знаешь? — спросил Вадим.
На давно не бритом изможденном лице мелькнула кривая улыбка.
— Знаю, — с той же кривой улыбкой ответил он.
И только тут, вот по этой улыбке, Вадим окончательно узнал его.
— Гриша? Петров? Это ты?
— Я, Волков Вадим, я… — Глаза его вновь похолодели и погасли.
Поезд снизил ход, подъезжая к станции.
Вадим не знал, что сказать дальше, и в этой неловкой паузе инвалид вновь взялся за колеса коляски.
— Ладно, как-нибудь встретимся тут. Бывай. Надо работать, — произнес он и двинулся к выходу.
«Господи… Гриша, Гриша…» — Вадим заметил, как учащенно билось его сердце и как шумно пульсировала в висках кровь.
С Григорием Петровым они вместе служили в армии, в одной роте. Потом, после армии, они встречались в Москве. Григорий был высоким, стройным парнем, занимался спортом, играл в волейбол. Еще в советское время ради квартиры он пошел работать на стройку, и там ему придавила ноги панель перекрытия. Ноги ампутировали выше колен, но началась двойная гангрена, и пришлось резать ноги выше. С тех пор прошло уже больше двадцати лет. И вот — свиделись…
Вадим тяжело вздохнул. «Эх, жизнь… — покачал он головой. — Как она порой оборачивается… Одним всё дает, а у других всё отнимает…»
Когда он вышел из метро, стоял теплый солнечный день. Конец сентября, похоже, разразился настоящим бабьим летом. На пожелтевших деревьях и кустах радостно щебетали воробьи, и снова, раскрывшись, запестрели цветы на клумбах.
Подойдя к дому своего товарища, Вадим вспомнил его тревожный телефонный голос. Алексей Петрович, тоже филолог по профессии, но преподававший в вузе, последнее время часто жаловался на сердце и однажды уже побывал в больнице с инфарктом. Подружившись еще в педагогическом, они затем не потерялись друг для друга, постоянно созванивались и виделись, находя в общении взаимный душевный отклик и интерес. Профессия и похожий склад характеров сблизили их, но самое главное — их объединял взгляд на жизнь, одновременно философский и религиозный. А отличало только то, что Алексей Петрович уже был разведен и решительно противился новым семейным узам.
Когда Алексей Петрович открыл дверь на звонок, то Вадиму бросилась в глаза откровенная разобранность товарища. Был он в длинном коричневом халате, небрит, а мутно-красноватые глаза и скомканные остатки волос на голове говорили, что хозяин эту ночь плохо спал. Даже его прежняя полнота теперь казалась неприметной. При рукопожатии Вадим обратил внимание на его расслабленную влажную ладонь.
— Неважно выглядишь, — удрученно констатировал он.
— Ночью «скорую» вызывал. — Алексей Петрович махнул рукой. — Два укола сделали. Хотели с собой забрать. Я отказался. Только что был врач из поликлиники. — Он поднял на Вадима грустные, еще недавно зеленовато-серые, а теперь туманные глаза. — Проходи.
Однокомнатная квартира пребывала в беспорядке — кровать не убрана, книги на столе соседствовали с грязной посудой и лекарствами. Полуоткрытые шторы на окнах сгущали состояние общего неуюта. Вадим удрученно осмотрелся.
— Чего раньше-то не позвонил?
— Да думал, проскочу, как всегда…
— Сердце?
— Угу, оно. — Алексей Петрович грузно опустился в кресло. — Ладно, садись, поговорим…
— У тебя тут ни света, ни воздуха, поневоле заболеешь. — Вадим подошел к окну, раздвинул шторы и открыл настежь форточку. Приятный свежий воздух вместе с городским гулом хлынул в комнату. — На улице теплынь, лето вернулось, а у тебя как в склепе.
Отодвинув от стола стул, присел.
— Чего-нибудь ел сегодня? — спросил он хозяина.
— Пытался, но ничего нейдет. Давление, видать, поднялось.
— Так-так, — протянул Вадим. — И что же будем делать?
— Поговорим, — спокойно сказал Алексей Петрович. — Не волнуйся, хуже, думаю, не будет. Попью лекарства, пройдет. — Он запахнул на груди халат.
— Леш, так нельзя. Лапы откинешь, никто и знать не будет. Зря ты от больницы отказался.
— Ничего, ничего, еще не время мне лапы откидывать. Не всё сделал. Бог еще даст поскрипеть. Да и с тобой повидаться надо было. Ты лучше скажи, как у тебя-то с Мариной?
— А, — нехотя бросил Вадим, — все так же. Гуляет напропалую. Живу почти как ты, холостяком.
— Не завидую. — Алексей Петрович усмехнулся, приподняв края седеющих усов. — Я хотя бы от этой обузы избавился.
— Сейчас эта обуза тебе бы не помешала…
— Вадим, ты же видел: когда я здоров, у меня дома все блестит. А от них, от вертихвосток, только сплошной кавардак в жизни.
Вадим попытался его взбодрить:
— Ты что же, стал женоненавистником?
— Нет, не стал. Но близко их к себе больше не подпускаю. Помнишь, Толстой признался: «Когда я буду умирать, то скажу всё, что думаю о женщинах, и поскорее захлопну крышку гроба». Вот и я, чувствую, дозрел до того же.
— Ладно, шут с ними. О чем поговорить-то хотел?
Алексей Петрович тяжело поднялся, медленно подошел к столу, достал из тюбика таблетку валидола и положил под язык.
— Ты мне самый близкий человек, Вадим, я ведь детдомовский, ты знаешь. Дочь еще мала, да и бывшая моя зараза ее ко мне не подпускает. Больше некому довериться. — Он открыл дверцу серванта, взял с полки сберкнижку. — Вот здесь у меня сто тысяч. В рублях. И адрес банка записан. Завещание я на тебя сделал. Если вдруг чего… В общем, похоронишь на свои, а через полгода отсюда на себя деньги переведешь. Квартиру я завещаю дочери. Вот так.
Он вернул сберкнижку на прежнее место и, сгорбившись, зашаркал назад, к креслу. Оба с минуту молчали. Первым встрепенулся Вадим.
— Значит, уже подготовился… А хорохоришься тут — мол, Бог даст поскрипеть…
Туманные глаза Алексея Петровича на мгновение осветились жизненным блеском.
— Ну, это так, пойми, на всякий случай. Мало ли что…
Вадим ответил ему всё понимающим, сочувственным взглядом.
— Да ясно, Леш, ясно. Я и без этого всё сделаю как надо. Но…
— Я и не сомневался. Но так будет справедливее.
Они несколько секунд смотрели друг на друга, и каждый из них через свой взгляд физически ощущал душевное состояние товарища.
— И еще, Вадим, — нарушил грустное молчание Алексей Петрович, — я последнее время читал духовную литературу, много думал над нею и делал всякие записи для себя. Наши с тобой беседы меня подвигли на это. Хочу, чтобы ты посмотрел, но… не сразу, а потом… Ну, в общем, потом прочитаешь… — Он достал из-под кипы газет на журнальном столе, стоящем возле кресла, широкий заклеенный конверт, протянул его слегка дрожащей рукой. — На, возьми.
Вадим встал со стула, приблизился к товарищу и в широко распахнутых, уставших глазах его разглядел одновременно и глубокую тоску, и доверчивую неловкость. Взяв конверт, он увидел крупную надпись на нем, сделанную карандашом: «Вадим, прочитай это после моей смерти». Печально покачал головой.
— Да, друг ты мой, дело серьезно, — сказал он и снова сел на стул. Потом добавил: — Алексей, я всё понимаю, но ты… не рано себя хоронишь?
— Вадим, я человек рациональный, — спокойно ответил Алексей Петрович. — Рано — не поздно. Прошлый раз, в больнице, врач сказал — сердце никудышное, второго инфаркта не выдержит. Так что я и вправду, как ты говоришь, на всякий случай решил подготовиться. А завтра, кстати сказать, придет знакомый батюшка. Исповедуюсь.
— Может, ты и прав, — вздохнул Вадим. — Все под Богом ходим.. — Он грустно улыбнулся. — И мне, что ли, завещание написать?..— Это никогда не лишне, — с такой же улыбкой присовокупил его товарищ. — Но ты, старичок, будешь жить долго.
— Это отчего же? — искренне удивился Вадим.
— У меня чутье на людей. Я тебя хорошо разглядел за наши годы. В тебе есть душевная сила. Она тебя будет крепко держать на земле. Ты, я знаю, долгожитель.
— Надо же, какой провидец у нас! — попытался рассмеяться Вадим. — Душевная сила, говоришь?.. Конечно, помирать никому не охота. Но надо ли жить долго в этом мире? В духовной литературе что сказано: кто держится за этот мир, тот Богу не угоден.
— Да, помню, помню… — Алексей Петрович несколько обреченно уронил голову на грудь. — Об этом мои записки в конверте…
Вадим бросил взгляд на белый широкий конверт, лежащий у него на коленях. Едва приподнявшееся настроение вновь сменилось тоскливой тяжестью под сердцем.
— Я все же надеюсь — не скоро его вскрою, — сказал он. — Ты давай тут не размякай и сам не торопи себя в могилу. Священник — это дело важное. От грехов избавляться всем надо. Но потом сразу вызывай «скорую» и ложись в больницу. Договорились?
После некоторой паузы Алексей Петрович выдохнул:
— Договорились…
— Вот и хорошо. Я завтра позвоню. Тоже мне, «рациональный»… У рациональных сердце как часы работает.
Вадим поднялся, собрал в кучу грязную посуду со стола и отнес на кухню. Долго смывал с тарелок и блюдец засохшие на них остатки еды. Заглянул в холодильник. Обнаруженной там снеди могло хватить дня на два. Вернувшись в комнату, посмотрел на сидящего всё в той же позе товарища с обреченно опущенной на грудь головой.
— Алексей, ты не спишь? — негромко спросил он.
Сидящий в кресле товарищ поднял к нему свое лицо. В его глазах блестели слезы.
— Леш, ты чего? — Вадим приблизился и взял его за плечи. — Ты чего? Всё будет нормально, старик. Рано тебе себя хоронить. — Он слегка встряхнул плечи товарища. — Мы еще поживем, вот увидишь! Я, когда к тебе ехал, встретил в метро инвалида без ног. А оказалось, это Гришка Петров, перворазрядник по волейболу, мы в армии вместе служили. И ничего, не раскис, держится за жизнь. Ты тоже, Леш, возьми себя в руки. Держаться надо, слышь?
Алексей Петрович выдавил горькую улыбку. Одинокая слеза скатилась по его щеке. Он обнял Вадима за шею, притянул к себе его голову и прошептал в ухо:
— Спасибо тебе за всё, друг…
Вадим крепко сжал его плечи.
— Держись, старик. Не падай духом. Мы прорвемся…
— Прорвемся, Вадик… Спасибо.
Алексей Петрович разжал руки и вытер ладонью след от слезы на щеке.
— Ну всё, Вадик. Извини, что-то я расслабился. Давай до завтра. Позвони.
Вадим взял со стола конверт.
— Подожди, я провожу. — Алексей Петрович, кряхтя и упираясь на подлокотники кресла, встал на ноги.
В прихожей они еще раз обнялись.
Вадим вышел на улицу. Солнце дышало последним осенним теплом. На карнизах ворковали голуби, стаи воробьев с шумом перелетали с деревьев на газоны, с газонов на тротуары и обратно. Зелено-рыжая листва замерла на своих ветвях, словно раздумав спадать на землю. Природа наслаждалась жизнью и теплым благоуханием перед скорой неизбежностью холодов и долгого замирания. Глаза хотели радоваться всему вокруг, но всё, что было перед глазами, не отвечало душевному состоянию Вадима.
Приехав домой и немного перекусив, он раздвинул диван и до темноты лежал на спине, глядя в потолок. «Зачем мы живем на свете? — думал он. — В чем смысл нашего существования? Пришли, помучились тут и ушли. Вот и Гриша… За что такое наказание ему? Он что, родился, чтобы просить подаяние? Или Бог через него нас испытывает? Его-то душа спасется за такие муки. Но она, может быть, и нам помогает спастись? Может быть, эти калеки напоминают о Божеской милости к нам…»
Сомкнув веки, он на какое-то время заснул, но хлопок входной двери заставил его вздрогнуть. На этот раз жена быстро, почти бесшумно разделась и затихла в своей комнате. Вадим ожидал обычного стука в свою дверь, но ни через десять, ни через пятнадцать, ни через тридцать минут жена никак о себе не напоминала. Ему это показалось странным.
Вадим встал, сел за стол и включил лампу. Глаза его застыли на открытой странице Евангелия: «Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, — Да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал Ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал ему: что есть истина?..» В это мгновение Вадим ощутил мягкое прикосновение рук к своим плечам. От неожиданности легкий озноб прошел по спине.
— Извини, что помешала, — услышал он тихий голос жены. — Я на минуту.
Вадим поднял глаза к черному проему окна и продолжал сидеть не оборачиваясь. Ладони жены с плеч опустились ему на грудь, теребя ворот рубашки. На этот раз от нее не исходило запахов сигаретного дыма и вина.
— Давай немного поговорим. Ты не против?
Он ничего не ответил.
— Плохо мне, Вадим. Надо что-то делать. Так больше нельзя. Жизнь бессмысленно проходит. Хочется душевного покоя, и нет его. Понимаешь, нет ни покоя, ни смысла, ни радости, ни… — голос ее дрогнул, — ни в чем.
Она нагнулась к нему и обвила его руками.
— Вадим, прости меня за всё. Прошу тебя, прости, я всё делала неправильно, я теперь это понимаю…
Ему на шею упала ее слеза и медленно потекла под рубашку. Вадим положил руку на ее запястье. Этот жест словно прорвал какую-то заслонку в ее нервах, и она, сотрясаясь всем телом, разрыдалась в голос. Слезы, как будто копившиеся годами, потоком потекли на его щеки и шею, отчего он и сам, чувствуя резь в глазах, уже готов был прослезиться вместе с ней.
— Давай всё забудем, Вадим, — немного успокоившись и прижавшись к нему горячей влажной щекой, шептала она. — Давай куда-нибудь уедем, а? Хочешь, я достану путевки на работе — и уедем? Давай, а?
Вадим сжимал ее руки и не знал, что сказать. Подобные сцены, слезы и раскаяния уже не раз происходили со стороны жены, и он всегда прощал ее, потому что не мог удержаться от жалости к ней, ему и самому было неимоверно тягостно на душе от этой мертвой холодности их отношений в течение целого года.
— Хорошо, Марина, хорошо. Всё правильно. Так дальше не должно продолжаться.
— Я люблю тебя, — перебила она его. — Я это поняла. Мне больше никто не нужен…
Она еще сильнее прижалась к нему и ударила пальцем по кнопке настольной лампы.
Проснулся Вадим поздним утром. Даже хлопки железных дверей соседей по подъезду, как ни странно, его не разбудили. На кухне ожидал накрытый белым полотенцем завтрак. Рядом лежала записка: «Приду сегодня в шесть вечера. Будь дома. Целую».
За окном, как и вчера, сияло синее безоблачное небо. «Господи, странная эта штука, жизнь… — думалось ему. — Бросает нас то вверх, то вниз… И ведь совсем немного надо, чтобы душа порадовалась жизни…»
Он вышел из дому и направился на соседнюю улицу, в банк. Затем доехал на автобусе до своей ветки метро, спустился вниз. Минут пятнадцать ходил по платформе из одного конца в другой, пока не увидел его, в камуфляжной куртке, выезжающего из вагона на своей «инвалидке». Быстрым шагом приблизился к нему, чтобы тот не успел проникнуть в вагон поезда, идущего в обратную сторону.
— Гриша! — окликнул он со спины человека в коляске.
Инвалид развернул коляску к нему лицом. Вадим на секунду опешил. В коляске сидел другой человек. Тоже без ног, в такой же куртке, но — другой, на вид явно старше.
— А где Гриша? — спросил Вадим, ощутив, как сжалось сердце.
Инвалид взглянул на него исподлобья с хмурой подозрительностью.
— Ты кто такой?
— Я его старый знакомый. В армии служили… вместе…
— Знакомый? — Инвалид посмотрел в обе стороны платформы. — Нету больше Гриши, — с опаской чуть слышно промычал он.
— Как нету? — едва не вскрикнул Вадим.
— А так, нету и всё. И не будет никогда.
— Ты чего мелешь? Куда он делся? — Вадим подступил к нему ближе.
Инвалид с шумом выпустил воздух из плотно сжатых почерневших губ.
— Убили его. Вчера вечером. — Он еще раз посмотрел по сторонам. — Деньги не дал хозяину. Тут хозяин — чечен. У него своя банда. Зверье.
— Как убили?.. — не сразу дошли эти слова до Вадима.
— Так. Забрали бабки, и нож в горло. Дочка у него где-то учится. Он выручку заначивал, чтоб за учебу платить.
Вадим был в полной растерянности. Это жуткое известие, как обухом, ударило его по голове.
— Ладно, некогда мне, — пробубнил инвалид, хватаясь за колеса коляски.
— Постой, постой, — Вадим попытался его задержать. — Подожди. Я ведь хотел ему… — Он достал из бокового кармана плаща небольшой конверт. — Тут вот деньги... Ты можешь это… дочке его передать?
Инвалид поднял кверху обе руки в дырявых тряпичных перчатках и, отмахиваясь ими, затараторил:
— Нет, нет! Отнимут. Еще хуже будет. За нами следят везде. Хозяин — зверь. Мужик, иди своей дорогой. Я тебя не знаю… — Он резко крутанул колеса и исчез в стоящем у платформы вагоне.
Вадим, ошарашенный, с конвертом в руке, не двигаясь, стоял и смотрел на закрывающиеся с шумом двери вагона и на грохочущий, удаляющийся в туннель поезд.
До вечера он не мог отойти от этого страшного сообщения. Ничего не хотел есть. И когда жена, придя с работы, приготовила вкусный ужин, сидел за столом хмурый и молчаливый.
— Что с тобой? — спросила она, кладя ему в тарелку ножку жареного цыпленка. — Не заболел?
Он ответил не сразу. Взял вилку, но так и застыл с нею в руке.
— Человека хорошего убили, — наконец, уставившись в стол, проговорил он. — Инвалида без ног. Он дочку содержал. А ему нож в горло… Я хотел деньгами помочь. Не получилось…
— Кошмар какой-то, — сочувственно сказала жена. — Отмучился, бедняга. Не переживай, все там будем. Поешь чего-нибудь.
Вадим машинально отщемил вилкой небольшой кусок цыпленка и положил в рот. Жевал долго и как-то отсутствующе.
— Извини, не могу, нет аппетита. Что-то сердце у меня не на месте. Пойду полежу немного.
Придя в комнату, он все же ложиться не стал. В темноте сел на диван, запрокинул голову и закрыл глаза. «Гриша, Гриша, — говорил он мысленно, — твоя душа еще здесь, среди людей и нелюдей, она еще страдает, видя своих близких, оттого что не может им ничего сказать и ничем помочь. Твои физические муки закончились, Гриша, и скоро тебе будет лучше, чем нам. Но я помню твои глаза… Они уже были там, далеко-далеко, за пределом нашего мира. Ты уже видел иной свет. Это было ясно по твоим глазам…»
В комнату вошла Марина. Не включая света, села рядом и положила голову ему на колени.
— Я договорилась насчет путевок, — сказала она. — На октябрь. В Сочи. Там тепло. В море можно купаться.
— Хорошо, — прошептал он и погладил ее по волосам. — Отойдем от Москвы. — И через паузу добавил: — Вот только за Алексея боюсь…
— Завтра надо будет за путевки заплатить, — вновь подала голос Марина. — У тебя есть наличные?
— Возьми в плаще, в конверте.
В комнате повисла долгая тишина. Даже можно было различить, как торопливо отстукивали время часы на книжном шкафу.
— Не обижайся, — сказал Вадим, задержав руку у нее на щеке, — но я сегодня хочу побыть один. Так надо.
— Не обижаюсь, — спокойно ответила жена. — Я понимаю.
Когда она ушла к себе, Вадим долго сидел не двигаясь в каком-то усталом оцепенении. Мозг его сверлил старый как мир вопрос: отчего же так сложилось на земле, что зло и корысть убивают доброту, что справедливость и правда гонимы и наказуемы, а жизнь человеческая настолько бессильна перед чьей-то тупой жестокостью? И в реальной земной жизни внятного ответа на этот вопрос он нигде и ни в чем не видел. Но ответ этот, он понимал, был там, на страницах открытой Книги, которая лежала на его письменном столе.
И тут он вспомнил, что обещал позвонить заболевшему товарищу. Торопливо, с нервным волнением набрал по мобильнику его номер и, стиснув зубы, долго слушал длинные гудки, раздававшиеся в телефонной трубке. Он набрал номер еще раз. Никто не отвечал. Волнение переросло в щемящую тоску и в предчувствие самого худшего. «Ладно, — попытался он успокоить себя, — утром поеду к нему».
Но успокоиться не удавалось. Сердце томилось от тяжелого предчувствия, и неотвязная мысль о товарище не отпускала его мозг. Он что-то должен был сделать, но никак не мог сообразить — что. И вдруг, как молния, перед его глазами мелькнуло нечто, похожее на белый конверт… «Боже мой, конверт…» — произнес он вслух. Но тут же, ощутив холодный пот на лбу, отбросил от себя это сосущее душу желание. Не раздеваясь, — прилег. Около часа лежал, мучительно пытаясь заглушить будораживший его сердечный порыв. «Нет, нет, не надо, — уговаривал он себя. — Нельзя это делать, нельзя…»
Справиться с собой Вадим не смог. Наконец он поднялся, включил свет, достал из книжного шкафа широкий конверт белого цвета, вскрыл и вынул из него несколько страниц с отпечатанным на них машинописным текстом. Сел за стол. В глазах зарябило, отчего текст искривился, строки наехали одна на другую. Он прижал пальцы к векам, стараясь унять нервную дрожь во всем теле.
Через несколько минут он вчитывался в текст послания своего друга.
«Вадим, дорогой, когда ты вскроешь этот конверт, меня уже не будет. Я говорю об этом спокойно, потому что морально давно готов к такому исходу. И ты тоже сильно не переживай. Как говорят, чему быть, того не миновать. Провидение знает, кому какой срок отпущен на грешной земле и в какое время настает пора предстать перед Всевышним. Мы с тобой достаточно пожили на свете, чтобы многое понять в человеческой сущности и уметь оценить увиденное. Думаю, и ты согласишься с некоторыми выводами, сделанными мною на 48-м году моей бренной и далеко не самой блестящей жизни.
Скажу сразу, выводы эти — печальные, более того — очень и очень печальные. Нет, не потому, что жизнь человеческая трудна, трагична и в основном грустна. В этом-то как раз есть высшая логика. Но потому, дорогой друг, что сам человек оказался мелок и недостоин того предназначения, какое замысливалось для него свыше. Вернее, природа человека, изначально Божественная и прекрасная в своей духовной высоте, в конце концов выродилась в нечто эгоистичное, тупое, приземленное, в нечто, не желающее даже думать о своем предназначении и отказывающееся помнить о высоком происхождении. Тут я оговорюсь: конечно же, не все таковы. Остались еще думающие и понимающие, и мы с тобой, несомненно, к ним относимся. Но подобных людей, если посмотреть на человечество со стороны, с каждым земным поколением все меньше и меньше. Церковь еще как-то пытается сдержать этот путь в пропасть, но, во-первых, ее давно уже почти никто не слушает, а во-вторых, сама она во многом, как ни печально, стоит на том же пути, сколько бы новых храмов она ни строила.
Человечество идет всё дальше от Христа. С крестиками на груди, которые чаще всего носят лишь как формальность или как украшение (в особенности женщины), так называемые христианские народы (и они — в первую очередь) всё дальше и дальше уходят от Бога. Посмотри на лица людей в метро или на улицах городов. Что ты увидишь в их глазах? За редчайшим исключением — пустоту. Разве кто-нибудь из них задумался хоть раз в жизни, для чего он живет? Живут, потому что родились. Но так ведь, извини, и кошки живут. Чем занята их голова? Жраньем, тряпками, вещами, деньгами, удовольствиями и развлечениями. Только личная выгода, только личный интерес, только личный комфорт владеют их мыслями, желаниями и чувствами. Что они могут взять с собой за пределы гроба?
Всемирный эгоизм, столкновение, битва эгоизмов — вот что такое нынешнее человеческое существование на земле. И даже сама Земля приносится в жертву этому дьявольскому, безграничному эгоизму. И ради этого Бог создавал человека?
Советский атеизм моментально сменился культом денег, воровством, обманом, грабежом всего и вся. А вспомни, какие очереди стояли в американские «Макдональдсы», когда они у нас открылись. «Оголодали» эти бараны при социализме, не нажрались жареной картошки!.. И не они ли, эти недоумки, такими же толпами потом бегали голосовать за Ельцина, пообещавшего им манну небесную! Ни нация, ни государство их не волнуют. С какой радостью, с каким счастливым визгом они предпочтут антихриста вместо спасения!
Вот мы с тобой литературу преподавали. Сколько русских писателей за прошедшие триста лет пытались этих двуногих овец пробудить и вразумить! И к чему мы пришли в конце концов? Кто их кумиры? Лахудра Пугачева, собчачка и сердючка. После такого результата хочется зажмурить глаза — и головой в омут. И их, по-твоему, надо спасать? Помилуй Боже! Не хочу я в ином мире опять их физиономии увидеть. Здесь насмотрелся!
Два века назад русские люди Христа в душе носили. Хоть и не все, но большей частью Бога боялись. Потому что, как нам объясняли в школе, «были неграмотными и недалекими». А теперь, мол, — стали образованными. Не верят никому и ни во что, кроме телевизора. Новый идол у них появился — телевизор. Ожидовленные «ученые» до сих пор, как во времена пролеткульта, скопом против Православия выступают. Им не детская беспризорность, не повальная наркомания, а Православие жить мешает! Образовались!.. Их надо заново в детский сад записывать, а они по телеящику «за жизнь» балаболят. И другие из них (тысячи!) в Америку ломанулись — бабки заколачивать. Как же — истина в деньгах!
Любые знания без Бога в сердце — вредны, а не полезны. Сам я по мере сил пытался вложить в головы студентов эту прописную истину, известную нашим предкам. Может, в ком-то и взойдут посеянные мною зерна.
Вадим, дорогой, ты мог бы, конечно, мне возразить (хотя возразить-то уже не получится, я буду недосягаем), что, мол, в истории человечества все повторяется, что так, мол, уже было на земле, что Бог уже наказывал людей за безбожную безнравственность, за тягу к безмозглой, убийственной свободе. Но толку-то что от подобных возражений? Разве они что-то меняют? Разве природа человечества изменилась от Божеских наказаний? Нет, всякий раз, с витком каждой новой земной истории оно, человечество, становится еще хуже и доходит до еще больших мерзостей и преступлений ради каких-то чисто корыстных, эгоистических выгод.
Вадим, задумайся, для чего Христос страдал на кресте? Ради этих миллионов бессмысленно живущих и безмозгло жующих баранов? И что, их всех, мечтающих о красивом сексе и шикарном «Мерседесе», надо спасать через муки Христа? Да сами-то они хотят ли спасения? Сами-то они не обменяли уже свои души на секс и иномарки? И чего там спасать в их пустой утробе? Нет, Вадим, не за этих моральных уродов Бог страдал на кресте! И твоя любовь к человечеству как таковому, Вадим, не имеет смысла. Подумай об этом хорошенько. И прости меня за резкость. Накипело.
Но есть немногие, которые знают всё, о чем я здесь говорю. Вот они-то и хранят в своих душах частицу Божественного Духа. Праведники они или нет — это не главное, но им дано осознание высшего предназначения человеческого разума. Это предназначение — не для полетов в космос, а для полета мысли и души. Ради них страдал Христос, и только ради них и благодаря им всё еще спасается от уничтожения эгоистическое человечество. Они знают, что весь земной мир опутан змеиными кольцами дьявола, и все дела этого мира есть зло. Они знают, что их душа, рожденная от Бога, выше и сильнее ухищрений сего мира, который в конце концов — сгорит.
Вадим, храни душу и в ней Христа, и ты преодолеешь дьявольские сети этого мира. Вот мое главное завещание тебе. И я верю — мы еще увидимся, единственный мой друг на земле.
Душа моя заключает тебя в свои объятья.
Не грусти обо мне.
Алексей».
Прочтя последние строки, Вадим опустил голову на руки, сложенные на столе. Он долго сидел так, не поднимая головы от стола. «Всё ты правильно сказал, бедный мой товарищ. Спорить не о чем, — пытался он оценить прочитанное. — Но есть все же небольшое возражение. Не может каждый человек постоянно думать о своем предназначении. Иначе… Иначе — жизнь остановится… Но время еще не пришло… Пока рождаются дети, мир не погибнет…»
В седьмом часу утра его разбудил звонящий мобильник. Не открывая глаз, он нашарил на столе телефонную трубку и поднес к уху. Сознание еще пребывало в полудреме.
— Вадим Николаевич Волков? — дошел до слуха незнакомый мужской голос.
— Он самый, — хрипло ответил Вадим.
— Вас беспокоят из тринадцатой больницы, из реанимации. Дежурный врач. Звоню вам по просьбе Алексея Петровича. Его привезли к нам вчерашним вечером, он еще был в сознании. Он просил позвонить вам в случае летального исхода. В общем, спасти его не удалось, к сожалению. Примите наши соболезнования.
Вадим широко открытыми глазами смотрел в потолок. Язык не слушался, в ушах гулко отдавалось биение сердца.
— Алло? — звучал голос в трубке.
— Ясно… — хрипло выдавил Вадим. — Где он сейчас?
— В нашем морге.
Мобильник выскользнул из его пальцев и свалился на пол. Глаза покрылись какой-то мутью.
С полчаса лежал в оцепенении, уставившись в потолок. В памяти проплывала их последняя встреча, он ясно представлял себе лицо Алексея и его голос. Теперь он понимал, что всё было гораздо серьезнее и трагичнее у его товарища, чем ему казалось два дня назад. «Он уже ушел, когда я читал его письмо», — догадался Вадим. Это осознание немного утешило томящуюся совесть. Но послание Алексея продолжало теребить душу. «Да, конечно, — заново размышлял он, — многие люди не знают, для чего живут. Наверное, и не надо им знать. Но Бог любит человечество как Своих детей. Наказывает, учит и любит. А остальное уже зависит от нас…»
Он встал и облачился в халат. Жена еще спала в своей комнате. «Какие тут Сочи!.. — громко бросил он в сторону разделявшей их стены. — Без меня поедешь». Вышел на кухню, включил электроплиту, чтобы разогреть чайник.
За окном ярко синело безоблачное сентябрьское небо. От легкого дуновения ветра спадали на землю пожухлые листья с городских деревьев. На тротуарах мельтешили сизые голуби. Стаи воробьев перелетали с газона на газон. Молодая женщина у подъезда качала детскую коляску, в которой плакал ребенок.